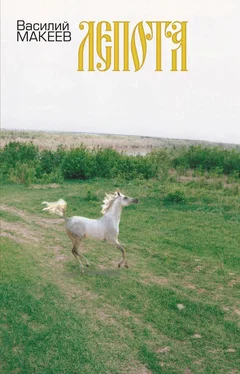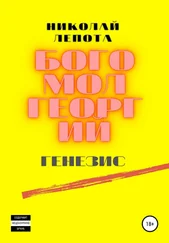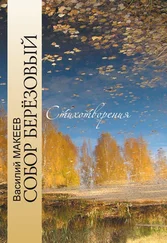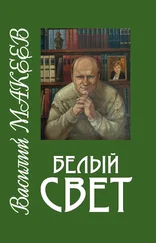Когда умрет пурга и снег вразброс уляжется,
У худенькой реки и заспанных прудов
Согбенные талы под свежей снежной
тяжестью
Кряхтят, как старики под тяжестью годов.
Талы в свой добрый час
гвардейски распрямятся,
И распушит камыш седые кивера.
А где уж мне теперь за юностью гоняться? —
О прожитом своем подумывать пора.
Талы, камыш, трава соседствуют, как дети,
Я в силах их убить, навек искореня.
Меня же, может быть, лишь родич по планете
Отважится убить. Забавная родня!
И света нет того, и вряд ли есть похожий,
Вслепую ищем мы добро и благодать.
Пускай хоть каждый день
мороз дерет по коже,
А больше жизни нам и нечего желать.
Я снег тугой топчу, он под ногой играет,
Я прорубь колочу на тулове реки.
И снова тишина. Природа замирает…
И мудрые кряхтят под снегом тальники.


«Коль однажды в полночи подлунной…»
Коль однажды в полночи подлунной
Веки мне прикроет горицвет,
Говорите: – Помер забурунный
Стороны запущенной поэт.
На язык несдержанный от роду,
Равнодушный к скорбному труду,
Он с одной лишь матушкой-природой
Жил без брани в радостном ладу.
Дождик лил —
он плакал без утайки,
День сиял – смеялся что есть сил,
Про себя двусмысленные байки
По шалманам шустро разносил.
Перейдя и разума границу,
Слыть желал подобным соловью
И предпочитал заре – зарницу,
Грому – золотую молонью!
Он любил – не к ночи будь помянут! —
Но имел язвительный изъян:
Ежели был чувственно обманут,
Отвечал обманом на обман.
А в итоге голову повесил
И, впадая в умственный кисель,
До того в сердцах накуролесил,
Что застряла жизни карусель.
Кем он был – иной не воспомянет,
Лишь с улыбкой лоб перекрестит,
Но когда пред Господом предстанет,
Тот его понятливо простит.
Лишь за то, что грешник сей воочью
В чумовой житейской шелухе
Никому не льстил и не морочил
Душу покаяньем во грехе.
«Сколь тоске ни поддаваться…»
Сколь тоске ни поддаваться,
Я смиренно пообвык —
Стал я часто обираться,
Как пред смертушкой старик.
Пальцы хрусткие ломаю,
Из пустого пью корца,
Крошки зряшно обираю
С побледневшего лица.
Знать, не зря в ночи безгласной,
Чтоб душой не осерчал,
Мне с жердины телеграфной
Трижды филин прокричал.
Я пил бы мед и вашими устами,
И вашей грустью сердце бы лечил,
Когда б оно застыло в ледоставе,
Когда бы мед полынью не горчил.
Но все равно в мурашковом затишье
Я слышал сам, растерянно сперва,
Как роем градин прядают по крыше
Иль влагой с весел катятся слова.
Вы не учили роковому делу,
Учили вы словами не грешить.
Поэзия должна быть чистотелом
Для всех болячек муторной души!
Не волен всяк трясти ее, как грушу,
За ради славы тертой и гроша.
За что же вы свою терзали душу,
Что в крик кричала слабая душа?!
Не берегли, по капле не хранили,
Ожесточась, держали под уздцы.
И не теплом на землю исходили,
А сизым пеплом пламенной росы!
Но все равно цветами, соловьями
Живет земли нетленной красота!
Я пил бы мед и вашими устами,
Да запеклись медовые уста.
«Чермная мгла ее глаз чудотворных…»
Чермная мгла ее глаз чудотворных,
Детские губы к рассвету темней…
Боже мой!
Сколько ночей непритворных!
Сколько сварливых и приторных дней!
Нет уж!
Отныне я сумрачно знаю
Памятным телом до самого дна:
Женщина праведна только ночная,
Днем только – серая кошка она.
Вот по щекам распластала ресницы,
Родинки светятся в чуткой тени.
Все ей за белые ночи простится!
Все ей воздастся за черные дни!
Засветло – ведьмой,
В ночи – мирозданьем, —
Непредсказуемая красота…
Ровно плечо мне щекочет дыханьем
Теплый колодец усталого рта.
«Морозец терпкий, как моченый терен…»
Морозец терпкий, как моченый терен.
Метель играет, юбки заголив.
И все же мир пронзительно-просторен,
И снег, как лист капустный, говорлив.
Читать дальше