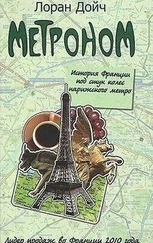«После Нового года у них продолжается старый…»
После Нового года у них продолжается старый.
Снега нет. Ветра нет. День похож на футляр от гитары;
он слегка залоснился и замер в медвежьем углу.
Персонажи скучают. А что им ещё остаётся?
Головами качают. Включают подсветку эмоций.
Диалог состоит из «ага», «огого» и «угу».
Огого – это «сильно». Ага и угу – «как обычно».
Чёрно-белая фильма: субтитры, цензура, кавычки.
Это Мёбиус с лентой зашёл погостить и отжёг.
Персонажи, вставая, роняют слова и запчасти.
И под треск киноплёнки дрожат на клеёнке две чашки.
И под каждой из них образуется липкий кружок.
Начинается снег. Дышит в спину разбуженный ветер.
По экрану ползёт что-то среднее между медведем
и бастардом гориллы… Дублёр, задушив двойника,
говорит в микрофон о превратностях киноискусства.
После Нового года у них обостряются чувства,
но дождавшись финала, мы видим одни облака.
Зеркало смотрит в зеркало. В каждом из них стоит
некий субъект, лет 50 на вид,
может, и 90, черты-то стёрты.
Есть вероятность – юноша он ещё.
Зеркало смотрит в зеркало, всё течёт.
Трудно сказать, кто тут живой, кто мёртвый.
В сдвоенных отражениях, в дублях дней
город в своём скольжении всё бледней,
и сквозь него проступает такое нечто —
впору бежать и прятаться, ибо скатившись за,
не уберечь сознание и глаза,
ежели ты нуждаешься в них, конечно.
Зеркало смотрит в зеркало, сделав скрин —
шот оплетающей всякий предмет тоски,
жажды чего-то большего или даже
меньшего, чем дано тебе, а дано:
зеркало смотрит в зеркало, видит дно
чёрной дыры в отверстой груди пейзажа.
«Я забыл, к чему снится янтарный буйвол…»
Я забыл, к чему снится янтарный буйвол.
Он лежит во тьме на стёганом одеяле.
И могучий бес в пепельных крыльях бури
голубые кольца в ноздри его вдевает.
Ведьмы плетут венки и нанизывают на рога его.
Если ты не евнух, любая раздвинет ноги.
«Практикующий магию практикует и полигамию», —
смотрим книгу Еноха.
Ты, конечно, можешь бежать, но я тебе не советую,
ведь куда бы ты ни бежал, все дороги ведут к погибели:
мы едим своих стариков, чтобы ночь оставалась светлой,
те закалывают детей, чтоб дожди наконец-то выпали.
Покажи язык из погребальной урны.
Что за дело им, как ты здесь оказался?
Вспоминай же – У Лао-цзы был янтарный буйвол
(для профанов – чёрный, в апокрифах пишут: красный).
«Ты смотришь, как бабочки замертво падают на пол…»
Ты смотришь, как бабочки замертво падают на пол.
Ты слышишь оркестр: он играет то Баха, то Франка.
Выходишь из комнаты и на негнущихся лапах
идёшь параллельно покрытому саваном парку.
В передних конечностях – тельце зверька. И, вгрызаясь
в дрожащую плоть, ты опять перепачкался красным…
Разводят костры существа с ледяными глазами
у смутных порталов, на площади круглой и грязной.
Ты силишься вспомнить, откуда всё это взялось, и
летишь без страховки в какие-то чёрные дыры,
где в кожаных креслах сидят здоровенные лоси,
сидят и хохочут, что старые, что молодые.
На их мониторах ты словно вращаешься в танце,
становишься вихрем, несёшься сквозь эры ли, яти,
сперва искривляя, потом распрямляя пространство,
пока не проснёшься, что бабушка надвое, кстати.
«На первом канале, в прямом эфире…»
На первом канале, в прямом эфире
Бог говорит, что Бога не существует.
Кто же тогда снимает эти смешные фильмы,
где плохие парни тупо сидят на стульях,
на глазах у зрителя хорошея?
Вот они поднимаются, покидают бар, но
наливаются кровью их бычьи шеи,
и все вспоминают, что это плохие парни.
Положительные герои не дремлют тоже.
Начинается перебранка и перестрелка.
Если хочешь спать, пуля тебя уложит…
Между тем на город нацеливаются тарелки
инопланетян, похожих на что-то вроде
абрикосового желе с сиреневыми глазами.
Ты идёшь на кухню. Рухнув, лежишь в проходе.
Изо рта с шипением выползают
титры – это что ещё за сюрпризы?
Бог раскрывает зонт, говорит, всё идёт по плану.
Срочно звони любовнице, делай визы.
На ковчег позволено только парам.
«Развернувшись, пуля летит в материнский ствол…»
Читать дальше