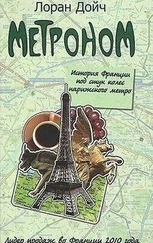«Шли они по воде, но не на плотах, как эти…»
«Шли они по воде, но не на плотах, как эти,
а на своих двоих, как только они и могут.
И первыми шли старики и дети,
а последними силачи с паланкином Бога.
И был паланкин тот пуст, но давил такою
тяжестью, что казалось, Сам восседает в нём.
И были в их ВВС летающие драконы
и серафимы, стреляющие огнём.
Над шествием развевались штандарты света.
Ни вождь, ни первосвященник не помнили, в чём их цель.
И если что оставалось, так это вектор,
движения, общий контур его в Творце».
Обычно на этом месте он замолкает.
И слушатели кричат ему: «Ересь!»
Или
возмущённо двигая кадыками,
растворяются в поднимаемой ветром пыли.
1
Приоткроешь дверцу в моей груди
и увидишь: зеркало, шкаф, стена.
На высоком стуле старик сидит,
смотрит с удивлением на тебя.
Он сидит и курит большой косяк,
поднимает смутные паруса.
На полу, ворочаясь так и сяк,
тень его часами лежит без сна.
Стул плывет по воздуху, воздух сер.
На комоде – слоники-шатуны.
А в окне распахнутом виден сквер.
А над сквером – крапчатый шар луны…
Ты прикрыл бы дверцу-то от греха —
голова закружится и кранты:
превратишься в ветхого старика,
пленника покинутой комнаты.
2
Фокусник открывает багровый рот,
и изо рта его тянется серпантин
изумрудных змей. И миниатюрный рог
венчает их королеву. И снег летит,
расставляя точки над вереницей «и».
Фокусник проводит рукой по лбу,
и над эстрадой вспыхивают огни,
а меж рядами кресел растёт бамбук.
Миг – и зайдется в хохоте старый лис,
глядя как содрогаясь, молясь, крича,
зрители умирают, в буквальном смыс —
ле сражены ловкостью трюкача.
3
Перед тем как лечь, Чарльз выходит на задний двор,
на передний план, на последний участок сна.
И тогда над ним нависает угрюмый дом,
на кривом крыльце – красная полоса.
И в одном окне виден сосновый бор,
а в другом окне – фабричной трубы цилиндр.
То ли это бред, то ли программный сбой;
то ли автор врёт, но кто его исцелит?
Он и сам не рад, что на сцену выходит Чарльз,
что огонь во рту и дрожь не унять в руках,
что один из них, верно, умрёт сейчас,
но какой из двух, и почему, и как?
Замолчи, прошу, рану не береди!
Не смотри назад, можешь лишиться сна.
Там всё тот же дом с окнами на груди.
На кривом крыльце – красная полоса.
Сперва из текста выпадает снег,
а вслед за ним – герой и героиня.
Всё это происходит не во сне —
они как раз о смерти говорили
в шестой главе, и на тебе – летят;
вокруг – снежинки, ангелы и галки…
И дикторша в вечерних новостях
тот самый текст читает из-под палки.
Она доходит до шестой главы.
А студия тем временем пустеет,
хотя по ней расхаживают львы,
застав киномехаников в постелях;
читай «врасплох» и сразу отвернись,
ведь ты же не выносишь вида крови…
В студийных окнах только тёмный низ
ночных небес и кадры старых хроник:
отец народов на трибуне ли,
лиловый негр, линчуемый толпою;
пришельцы на другом конце Земли,
идущие на этот за тобою.
Они спешат, их душит нервный смех,
в их сумках – новогодние подарки.
А с неба продолжает падать снег,
протагонисты, ангелы и галки.
Уже зажигаются лампы голов
на всех площадях городских.
И зимнее небо – разваренный плов,
посыпанный перцем тоски —
становится ближе, как этот поёт:
две буквы, последняя – «г».
И словно на лыжах, скользит самолёт
в густой новогодней пурге.
И в том самолёте сидит пассажир,
и кажется, даже живой.
Считает воздушные он этажи,
соседку считает женой.
И пусть эта фифа ему не чета —
накрасила рот и молчит,
но кто-то же должен платить по счетам
за тех, кого не приручил.
А город внизу уменьшается всё;
глазами похлопал и лёг.
И только в эфире, забитом попсой,
горит голубой огонёк…
Астральный трансформер вздымает Ковши.
И, рухнув на Землю с небес,
волхвы вспоминают, куда они шли
и кто их кураторы здесь.
«Снег начинает падать не раньше, чем ты…»
Снег начинает падать не раньше, чем ты
грузно садишься в кресло и замерзаешь.
Время несогласованно и плачевно,
если смотреть на вещи его глазами.
Всё налицо: неровности, швы, помарки.
Люди вообще скомканы и приплюснуты.
Над головой проносятся вихри кварков,
а под ногами лопаются моллюски…
Стены покрыты инеем и сквозь них ты
видишь дворы в неверном, коварном свете.
Спину шоссе перебегают пихты.
В дальнем окне пляшет линялый свитер.
Прямо под ним – окаменевший мамонт.
И дикари кухонными ножами
режут его и впопыхах ломают
лезвия.
И когда, раздувая жабры,
за гаражом, по крышу ушедшим в землю,
штопором входит в воздух косяк салаки,
время становится чем-то совсем музейным:
мумией, ископаемым, рощей статуй.
Читать дальше