Стужа. Разбитые стёкла и снега мел.
Пыльных чувяк замерший шаг, как в кино.
Взгляд табуретки в кресле окостенел —
это старуха слепая смотрит в окно.
Это тень наползает на комнату
С непогожей чужой стороны.
Ты весь день, как в миру перевёрнутом,
Чистишь берцы – ботинки войны.
Слыша ритм с края страшного, дальнего,
Где кипение зла через край.
И чеканно уже повторяется
По-армейски: «Ать-два» и «Айн-цвай».
Ты не просто их щеткою шаркаешь,
Ты их слышишь и видишь сквозь дым,
Как идут они твёрдо, печатая
В марш-броске, повторяя тот ритм.
И в стране какой – нет уже разницы,
Не унять – слышен топот, как рок,
В каждом доме одно повторяется —
Марш призывный армейских сапог.
Не забыться с того сладким Раем нам —
Ритм вгрызается, тянет на дно.
Я хватаю тогда и бросаю их,
Эти страшные берцы, в окно.
Бог войны к нам полуночно вломится
С окровавленной лапой из тьмы.
Закричу женским голосом тоненьким:
– Дверь закрой! Да с другой стороны!
Въявь тебя у Богов отнимаю я
В Рай палящих родных простыней,
Ведь такое в душе моей плавится —
Круче войн, горячее огней.
Мы же вместе задумали родину,
Где для счастья и детства нам жить!
Только берцы с шнуровкой, походные —
Значит, снова тебе уходить?
И «ать-два», и «айн-цвай» – чистишь в ритме ты
Берцы ваксой в пространстве земном.
А я, зло отнимая, швыряю их
Прямо в грозного бога, в окно.
– Подавись, чёрный демон из пропасти!
Ты не должен входить в эту дверь!
…Тает полк в дымке, чёрной от копоти,
В неизбывном пространстве потерь…
В новом мире живу, как нечаянно,
Где вокруг все чужие свои…
И однажды сама покупаю я,
В память, берцы – ботинки любви.
«А на станции дико и страшно…»
А на станции дико и страшно.
И безлюдно. И ночь, может быть.
Посылают меня, чебурашку,
От епархии города нашей
В Богородск, чтобы Бога родить…
Это бред у меня сумасшедший
Или сон и позор на миру.
Ведь горю я во пламени вечном
И трясусь я в автобусе спешном
Не к селу, а к чужому двору.
Что не так? Кто я есть?.. Промокашка?
Да, вы мной поступились шутя!
Неудашной судьбы замарашка,
Волговятской глуши неваляшка
Забубённого мира дитя.
Как ограбили, обворовали —
Вот те Бог, а вот это порог!
И от Рая до самого Ада,
И от дома до пропасти края
Я качусь прямо в чертополох.
Шестикрылы, глядят серафимы —
В стёкла неба им больно видать —
Едет дура, как есть из мульфильмы ,
С крышаря людям Бога рожать.
Ни бумаг у неё, ни печати.
Для зевак просто так, задарма,
Словно мира её все печали,
Христа ради сума иль тюрьма.
«…Ведь народу без Бога-то страшно,
ведь без Бога народ – сирота…»
Ты езжай, говорят, потеряшка,
ты роди в Богородске Христа.
Я ж не помню и свойное имя,
Позабыла и город, и дом,
Как они, те, пославшие, били,
Всё отбили во чреве моём…
Серафимы, глядите из Рая
На мой стыд и на сон мой дурной —
Как кондуктор стоит и вздыхает,
И качает шофёр головой.
«Старые окна похожи на лики старух…»
Старые окна похожи на лики старух,
Тех, что отжили ушедшими в тьму летами.
И в покрывальных коричных шалях разлук
По небосклону, над избами, пролетают.
Или плывут в каравеллах на облаках,
Руки сложимши, в молчании, на коленях.
Скамьи расставлены в тех небесных местах.
Нави экскурсия, в ней проплывают тени.
Клетчатый плат – ветхой рамы узорный оклад.
В белых глазах, от моления, брезжит распятье.
За деревянным резным частоколом оград
Флоксы цветут – старухам фланели на платья.
Села, да и устала —
Свет на себе несла.
Веточки краснотала
С искорками тепла.
Холмы, долы да реки,
Чёрных дорог брикет…
Руки легли, как плети —
Тяжек ты, белый свет.
Ровно чего мне мало?
Птицам в небе легко.
Что ж ты несла, да встала?
До смерти-то далеко.
Дом подгнивает с полуночной стороны,
И на вагонке буквицы писем видны.
Мхи наползают замедленно на кирпич,
Дождиком ночь в височную мышцу стучит.
Пыткой становится явственною, земной.
Крен нарастает. Снится всё вниз головой.
Дом подгнивает. Так в почву врастает он.
Тельным венцом занемогшим, подпревшим венцом.
Ей растолковано, бабушке-то, давно —
Дом оседает. «Беда, сопрело звено», —
В валенках шатких сгорбится у окна.
Вспомнит, и страшно – жизнь её с неба видна.
Дом-то накренится с бабушкиным лицом…
Мне не заметно, мало мной прожит о .
К прялке садится и щупает веретено.
Глазом незрячим прищурится, где бельмо.
Белое-белое. Ночью вскочит: «Домой!»
«Дома ты, бабушка». – «Дяденька часовой,
Смилуйся, бабушку к маменьке отпусти!»
И, не узнавшая внучку, дальше летит.
Но спотыкается, падая в темноте.
Дом-то за бабушкой… да увлекает всех —
Видно лишь краешек – в морок впадает дом.
Бабушка встанет и выйдет на свете, на том.
Читать дальше



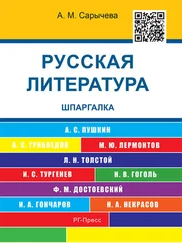


![Армен Гаспарян - Русская контрреволюция [Белые от Ростова до Парижа] [litres]](/books/401152/armen-gasparyan-russkaya-kontrrevolyuciya-belye-ot-ro-thumb.webp)





