Ходим по воду к колонке в феврале.
Мама льды полощет в ванне на дворе.
На верёвках мёрзнет стылое бельё.
Ветер детство по снегам стрижёт моё.
Никого его сильней на свете нет.
Всё же – ветер всюду лишний человек.
Я – детёныш – рождена между людьми.
По сусекам наскрести бы как любви?..
Вот сдадут они меня – чуму – в детдом…
Встала бабушка – не сметь! – с двойным перстом.
Но молчи – там, под подушкою, ремень.
Эта бабушка прожженная – кремень.
По-расчётному считает маме дни.
Бережётся мама, тихо время длит.
По корыту среднерусской колеи
Одногодочки косматые мои —
Все мы вместе по весне – деньки из дней —
По поповникам оврагов и полей.
Вот склоняюсь бестолковой головой
Над ладошкой мать-и-мачехи двойной.
И срываю самой жизни злую суть.
Мать-и-мачеху я матери несу:
– Погляди, её потрогай – холодна.
Это внешняя, на солнце, сторона
Зелена. А та, к земле, белым-бела.
Хоть к сырой, холодной, а мягка, тепла.
Я ребёнок. Я спрямка. Мне ль понимать?
Говорю: – Вот это мачеха, вот – мать.
Как же радостны весной её цветы.
Хоть они, как суть, предательски желты.
Мама губы сжала. Промолчала мама мне.
Мама льдов наполоскалась во дворе.
На ночь бабушка берёт большой топор.
С топором идёт-бредёт она на двор.
Там не вор, не тать, а звёзды. Может быть,
Будет бабушка всю ночь дрова рубить,
На Луну глядеть, а после – на зарю.
Говорит она: – Дрова колоть люблю.
С сорок третьего люблю…
Всё может быть.
Вся Россия шла тогда дрова рубить.
«Только раз, – поют, – цветут у нас сады…»
Эшелоны шли тогда во тьму беды.
Чёрный ворон – над посёлком – почтальон.
– Ты летай, – кричат ему, – хоть через дом!
– Не сойти бы только, бабоньки, с ума.
Тяжела она – почтовая сума.
Не от писем-птиц, со Сталиным газет.
Птицы лечат. Похороночек брикет —
С тех камней очугунела голова —
Документ судьбы о четырёх углах.
Вот он – вдовий пятистенный тесный дом.
Пятый угол – локотку широкий стол.
Смотрит бабушка застывшая в окно —
Много снега почтальонам намело.
И сугробом лезет-лезет до окон,
С сорок третьего, усталый почтальон.
Будет, будет колыхаться мамин лёд,
Мать-и-мачеха оврагом поползёт…
По весне с лопатой выйдем на усад.
На ладонь перва как плюнем, так копать.
Только «Карр!» вороний эхом вдалеке —
Глядь – вороны на домовом на коньке.
Вы живите, лады-ладушки мои,
Как тут бабушка хватала ком земли,
Как пригоршню жизни – дёрна схрон,
И кидала его, с р о змаха, в ворон.
Как колосс упёртый, вста м ши на земле:
– Ты не каркай, смерть поганая, по мне!
И, пока летел тот ком в седых ворон,
Утирала грубо руку о запон.
А какой там, за забором, ходит тать,
Мне ещё, по малолетству, не понять.
Над мартом – садами, снегами,
По небу, в лазури проточной,
Идёт нашей жизни «Титаник»
И стяги над градом полощет.
В весеннем миру, над домами,
Где грачьи голодные стаи,
Он, движим большими винтами,
Над аркой берёз возникает.
Так это заранее знать бы…
Пропорет он днище ножами —
О лёд голубой и хрустальный,
О вышку, что над гаражами.
Уж сносит его на торосы
Над телом горящего наста.
И поздно вопить тем матросам
Сквозь небо девятого марта,
Сквозь фильм, что на телеэкране
Вулканом бурлит из пробоин,
Эфиром, зияющей раной,
как в памяти жутко и больно.
Кренится и рушится мачта,
На снег упадает шипучий.
А в небе лазурь, точно Рай там,
Как будто там жить много лучше.
Осиротевший, бывший семейный тыл.
Вдоль коридора провисшие провода.
Шмотки рассыпал, пасмурен, разнокрыл
шкаф, растопыривший всю пустоту стыда.
Верных скелетов голые миражи,
как часовые, не бросившие посты.
Сон отторженья. По-мертвецки свежи
остекленевшие на кровати часы.
Мир остановлен в капсулах пыльных сот.
Тихо и жутко. Бесчеловечно распят
древний диван. Халат и плюшевый слон
всё ещё верят – хозяева их простят.
Люди отбыли, вытолкнувши взашей
старых комодов распахнутые гробы.
Я же, случайно попавшая в сон вещей,
вижу трагедию дома и крах судьбы.
Люди умчались в новое Рождество.
В светлых квартирах сейчас пекут пироги.
Здесь же клубится прошлого грубый сор
драных обоев, посуды, пустот нагих…
Читать дальше



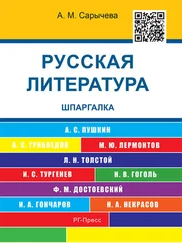


![Армен Гаспарян - Русская контрреволюция [Белые от Ростова до Парижа] [litres]](/books/401152/armen-gasparyan-russkaya-kontrrevolyuciya-belye-ot-ro-thumb.webp)





