1 ...7 8 9 11 12 13 ...21 Появляются эти образы неоднократно, как неотъемлемая часть жизни, её основа. Триединое содружество, образ трёх ангелов сопровождающих всюду русского человека.
«Что не так на сторонке нашей?..»
Что не так на сторонке нашей?
Всё печаль да печаль окрест.
Над какою такою чашей
плачут ангелы этих мест?
Всё над ней – человечьей долей —
многотерпно они молчат.
И всегда их, по-русски, трое.
И такая на всё печать…
Перед чашею онемели.
Будто бездной предъявлен счёт.
И молчанка над колыбелью,
будто вьюга в ночи, поёт.
Над невидимым нам кострищем
поднимается в небеса
дым над нищенским пепелищем,
над сечёным лугом отав.
Там обобранный погорелец
ищет светлую колыбель…
А в той чаше – лежит младенец.
Море слёз материнских в ней.
«Моя бабушка уголь грузила…»
Моя бабушка уголь грузила
на вокзале, у края судьбы.
От него она черпала силы
на труды от звезды до звезды.
Под косынкою прятала косы,
утирала ладонью слезу —
как гудели в ночи паровозы,
словно шёл эшелон на войну.
И, с лопатой щербатой своею,
шла с работы домой, как солдат.
Всех чертей преисподней чернее.
Только зубы белы да глаза.
До сих пор этой чёрною былью
полон вдовий очаг до краёв.
Пахнет потом да угольной пылью
от щербатой лопаты её.
Смерти-то нет. И плохое не в счёт.
Всё потому, что цикорий цветёт.
Будто колышется синее море —
самый простой придорожный цикорий.
Словно спустилось небесное в дол,
пятнами сини на мамин подол —
мама с серпом замерла у ворот.
А вдоль дороги цикорий цветёт.
Мама цикорий тот сжать пожалела.
Так вот стояла и молча глядела —
словно вдоль дома небесный прибой.
А у прибоя – соседка с козой:
«Жнёшь, Валентина?.. Бог в помощь тебе».
И уступает дорогу козе.
Ну, а козе – благодать, как в раю —
тянет к цикорию морду свою.
Мама ни слова не может сказать.
Небом плывёт, мимо них, благодать.
Смотрит – как цветень рогатая рвёт,
как натянулась верёвка её…
Будто душа прикоснулась огня.
«Съела цветы. И пошли от меня.
Я ж пожалела – не трону цветки…
Было – не стало – одни стебельки».
Светел небес запредельный цикорий.
Жизнь истончилась с подобных историй.
Мамы три года почти – уже нет.
А вдоль дороги – лазоревый цвет.
Будто на небо лазейка иль дверца.
Напоминанье для детского сердца.
Мама цветы за красу пожалела.
Уж не тогда ль её синь приглядела?..
«Стоит пшеница, нету ей предела…»
Стоит пшеница, нету ей предела.
Холмы и долы… А предела нет.
И облака, все в оперенье белом,
плывут над нею, испуская свет.
А ей дано расти и колоситься,
тянуться к небу, радуясь дождям.
И ветер гладит добрую пшеницу
по молодым, зелёным волосам.
Ей зрима жизнь возвышенней, полнее…
Гляжу на поле вдаль из-под руки
и вижу – от тепла благоговея,
оно склонило долу колоски.
Сейчас июнь, пора цветов и жажды.
И жнец к нему с серпом не подошёл.
Здесь зреет хлеб для августовской жатвы
и каравая на Его Престол.
Яблочным Спасом, Яблочным Спасом
веет сияние Божьих садов.
Это спасение Райского сада.
Выше – спасенье запретных плодов!
Пахнет корзинами, скрипом лозовым,
детским, с матрёшкою русскою, сном,
миром старинным, скатёркою новой,
душной корицей – большим пирогом.
На рушниках, шитых крестиком алым,
у хорошавки*, румянится Спас.
И полагается старым и малым
яблочком хрустнуть, упавшим, тотчас.
Дома у печки, с потёртым ухватом,
бабушка нежится в белом платке —
с Яблочным Спасом, с Яблочным Спасом!
И пироги в противнях на шестке.
*Хорошавка – яблоня
«Впадает в небо узкая протока…»
Впадает в небо узкая протока.
У августа глаза Ильи-пророка.
И плащ седой, спадающий с небес,
плывёт сквозь сад, кустам наперерез.
Через межу, предвидя неба твердь,
боясь крылом о край её задеть,
всё ниже пролетающие птицы.
А в грядах след от горней колесницы.
Скрещенье стрел и сполохи огней,
что вознеслись над гривами коней.
Всё видно здесь, от космоса до дна.
А выше – длань Господняя видна.
Читать дальше



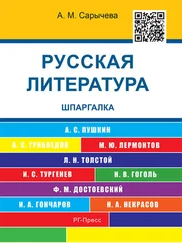


![Армен Гаспарян - Русская контрреволюция [Белые от Ростова до Парижа] [litres]](/books/401152/armen-gasparyan-russkaya-kontrrevolyuciya-belye-ot-ro-thumb.webp)





