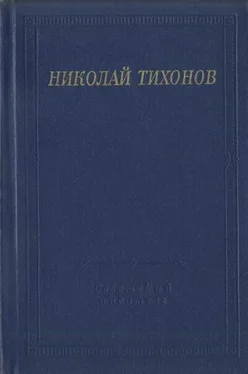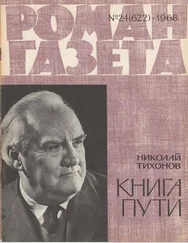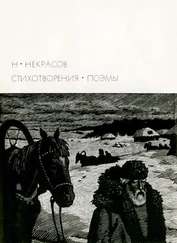И тогда мне привиделся пан —
Был он вздорный, и пыльный, и гладкий,
Он шагал по полям, обуян
Непонятной ему лихорадкой.
Выбирал лошадей как во сне,
Нанимал он возницей кого-то,
И по желтой лошадьей десне
Проползала большая зевота.
Доплетясь по дороге глухой,
Ждал он поезда в диком буфете,
И какой-то цветочной трухой
На платформе встречал его ветер.
Пан в вагоне часов не считал,
Лишь в окно он косился порою,
И такая росла нищета
За окном, что ничем не закроешь.
А в Варшаве шумят тополя,
Электричеством вымыты спицы,
Позабыв про немые поля,
Как на тризне гуляет столица.
И встает неизвестный солдат
Из могилы, луной освещенной,
И, как маршал, последний парад
Принимает страны обреченной.
И, багровый, в сигарном дыму,
Пан приходит к любовнице ночью,
И понятно ему одному,
Что сказать ему панна не хочет:
Что ей скучно до боли, до зла,
Что довольно душой покривила
И что если бы только могла,
То его бы, как моль, раздавила.
1935
С бензином красная колонка,
Машин немолчный вой,
В туфлях изношенных девчонка
Торчит, как часовой.
В рябой огонь неугомонный,
Рабой рекламы став,
Глядит из ниши там мадонна,
Заледенив уста.
Девчонка рядом с тем величьем
Стоит среди огней,
Есть что-то гордое, и птичье,
И конченное в ней.
И фары хлещут их, как плети,
Обеих, как сестер,
И нет несчастней их на свете,
Их повести простой.
Колонка красная — бензином
Полным она полна,
Девчонка с профилем орлиным
От голода пьяна.
Пусть фары жгут их, словно плети,
Гудки ревут года,
Им всё равно, кому ответить
И с кем уйти куда.
…Я не пишу отсель открыток,
Их нужно б — диких — сто,
Весь этот город полон пыток
И сдерживает стон.
Такой горластый — он немеет,
Такой пропащий — не сберечь,
Такой в ту ночь была Помпея,
Пред тем как утром пеплом лечь.
1935
В феврале 1934 года сорок семь шуцбундовцев после боев в Вене совершили героический поход, пройдя с боями путь от Вены до Чехословакии.
1
Еще в ушах звенело, словно шлемы
Бил непрерывный, небывалый град,
И каждому казалось: онемел он,
Идет и мыслит просто наугад.
В них продолжали улицы толпиться,
Дробиться стекла, падать фонари,
Небесный свет на шлемы и на лица
Сочувственно кидали пустыри.
Смеялись дети где-то, ворковали;
Еще пылала память, как дома, —
В глазах темнели схватки между зарев,
Вдруг всё исчезло: высилась зима.
Она была грустна, широкоплеча,
Полз, как червяк, пред нею поезд, мал,
И говорила на таком наречье,
Которого никто не понимал.
Под белым солнцем плоским побратимы
Себя нашли перед полей чредой,
Как мысли ход, ничем не отвратимый,
Шел лыжный след, подернутый слюдой.
2
Ни домов, ни людей, ни авто,
Только воздух зеленый и синий,
Никогда б не подумал никто,
Что в Европе зима, как в пустыне.
Как в пустыне, и жажда встает,
А колодцы — запретная зона,
Каблуком расколачивай лед
И соси его — сахар зеленый.
Под рукою и компаса нет,
Нет и карты какой завалящей,
Заходящему солнцу в ответ
Зажигай своей воли образчик.
А появится вражьих машин
На дороге служебная стая,
Бей чуть выше хеймверовских шин,
Не волнуйся, в атаку врастая.
Не последняя это зима,
Потерпи — и побудь человеком,
Ты увидишь: улыбка сама
Заиграет над мертвенным снегом.
3
Они идут — растаял город, —
Как будто век идут,
Как будто к векам липнет порох
И двигать веки — труд.
Какая воля ноги носит,
Дымится джунглей муть,
И кто врага с пути отбросит —
Выигрывает путь.
Всё джунгли тягостней и шире,
То злая широта,
Не много значат в этом мире
Покой и доброта.
Одну винтовку держат крепко,
Сжимают на ходу,
Одна есть в памяти зацепка,
Европой ли идут?
Иль больше нет земли подобной,
А всё, что в мире есть, —
Пустыня, шум лесов подробный,
Простор — смертельный весь.
Читать дальше