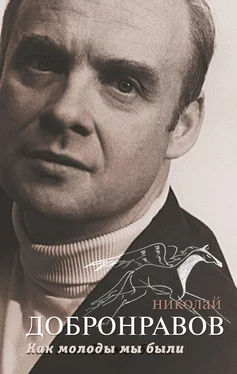В отечестве пророков нет.
И было все обыкновенно:
мотор. Подзвучка. Полный свет.
И у оркестра – третья смена.
И в зале нет свободных мест.
Софитов огненные жала.
И дирижерский точный жест,
провозглашающий Начало.
Да, было все, как сотни раз…
Сменялись, словно дни недели,
певцы и песни.
Телеглаз
следил за сценою, где пели
кумиры наших прошлых дней
и те, что нынче знамениты.
И только сердцу чуть тесней
в груди.
И жалили софиты
острее.
Барабан гудел
сильней.
Заканчивались сутки.
И в этот миг Кобзон запел
о том,
о малом промежутке…
А дирижер
все примечал:
что «до» должно быть чуть повыше,
что вдруг затих беспечный зал.
Но он (как странно!) не расслышал.
что это все
в последний раз,
что скоро кончится усталость,
что жить ему
всего лишь час
на этом свете оставалось.
В отечестве пророков нет.
Но завтрашней не будет ночи…
Всем людям на земле поэт
и жизнь и гибель напророчил.
О, этих образов и слов
испепеляющее пламя!
И вечный зов, солдатский зов,
зов, изреченный журавлями…
Да. Песня нас переживет.
И мы на это не в обиде.
Но кто-то в зале вдруг всплакнет,
как после, там, на панихиде,
морозным утром.
А пока
ждет хор торжественного знака.
И поднимается рука
перед последнею атакой.
Нацелен в будущее взгляд.
Исполнен верою всегдашней.
А журавли
уже летят
почти над самой телебашней…
Осталось несколько минут.
Сойдясь в мгновенья роковые,
его во тьме,
в кулисах ждут
с ушедшими
еще живые.
Со сцены вынесут его.
Солдатик,
тот, кто всех моложе,
солист ансамбля МВО,
маэстро на шинель уложит…
Останутся в строю бойцы,
неразмагниченные нервы.
непокоренные певцы,
останутся и боль, и вера,
из этих лет, из этих бед
не извлеченные уроки…
В отечестве пророков нет.
Но в песне есть свои пророки.
Постойте… одно мгновенье…
мне ваше лицо знакомо.
Мне чудятся всхлипы скрипок,
нарядный Колонный зал.
Конечно, ведь мы встречались
в концертах и даже дома.
Что ж вы молчите, Песня?
Песня, я Вас узнал.
Ах вот что… Я понимаю…
Ваших кудрей рефрены
сегодня уже не модны
и в блесточках – примитив,
и платье… оно банально
для телека и для сцены,
в отделке преобладает нынче другой мотив.
Вы усмехнулись, Песня…
Значит, не в этом дело?
Да, да… я припоминаю…
Вас кто-то зазря ругнул.
Какой-то корреспондентик
(как всем показалось – смело)
на Ваше происхожденье в статье своей намекнул.
Мол, несколько первых тактов
бестактно на шейк похожи,
законны ли в данном случае
родительские права?
Стали на вас коситься,
стали искать дотошно,
кто сочинил мелодию,
кто написал слова.
Судили-рядили, помнится,
почти три недели кряду,
а после
и композитор надолго в больницу слег,
поэт сделал вид, что занят,
он презирал эстраду,
Вашей судьбой заняться не захотел, не смог.
Так, значит, Вы пели, Песня,
боль сердца превозмогая!
Все правильно.
Кто опален – и подлостью опалён.
Простите, что опоздало это мое признанье,
но если б Вы знали, Песня,
кáк я был в Вас влюблен!
– Милая, что вы плачете? – Она на меня взглянула
осколками голубыми радостей и обид,
ладошку свою – ледышку доверчиво протянула:
«Последнее время что-то меня иногда знобит.
А многие, – прошептала, —
думают: я… с приветом.
Смотрите… вокруг смеются… Оставьте меня одну.
Спасибо, что не забыли. А в общем-то,
песня спета».
И голос ее напомнил надтреснутую струну.
Нам с детства твердят,
что мечта не изменит,
лишь только погромче себя объяви…
Но кончилась юность,
и память о сцене,
как горькая повесть о первой любви.
Партер, погруженный во тьму,
затихает…
звук флейты…
Чуть свет – и у ваших я ног.
И снова бессмертными, злыми стихами
клянусь,
что я жить без отчизны не мог.
В мерцанье софитов, скупом и неярком,
рождаются сумерки зимнего дня,
и Софья,
стихам вопреки и ремаркам,
целует,
целует,
целует меня!
И, старый дурак,
как я вновь опечален,
что это случается только во сне…
Но утром, в подъезде
товарищ Молчалин
с портфелем в руках
улыбается мне…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу