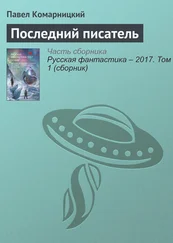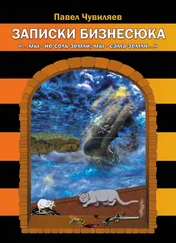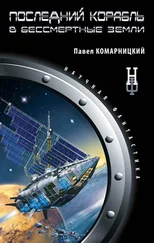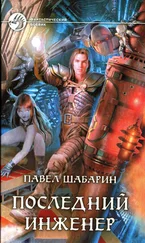С чего вдруг «Арзамас» занялся сказками? Ведь поэма «Руслан и Людмила», ходившая в списках года три до публикации, написана по заданию , выданному молодому дарованию, А. С. Пушкину, старшими товарищами в «Арзамасе». А потому, что «Руслан» – это, конечно, «Еруслан Лазаревич». Представьте себе ситуацию в тогдашней Москве и Петербурге. На рынках, например, Хитровом рынке в Москве, продаются целые развалы брошюрок-сказок. Они написаны, вроде бы, по-русски, но не содержат ни одного русского имени. Сплошь Бова-королевич, Еруслан Лазаревич да Остров Буян (о. Рюген). Откуда сие «духовное богатство»? А непонятно! Авторов нет; они либо нарочито анонимны, либо не указаны. И переводчиков нет, хотя литература явно переводная. Издано в Польше, в крайнем случае, в Киеве. Торгуют хмурые дядьки, как правило, нерусского вида («к жидам на Хитровку» – пословица того времени). Черта оседлости для торговцев не действует; цензура тоже. Цены очень низкие. Чтиво активно раскупается и потребляется единственным тогда более-менее грамотным слоем России – дворянами. Но начинает постепенно проникать в народную толщу через разночинцев и купцов. Начинают читать даже овладевающие грамотой крестьяне. Обучению крестьян после 1817 года немало способствовал деспот А. А. Аракчеев. Военные поселения впервые в России имели бесплатные начальные школы для солдатских детей, приписанных к крестьянскому сословию. Церковно-приходские школы появились позже. А солдатских детей стали учить потому, что в маневренной войне очень важна разведка. Солдат-лазутчик должен не просто увидеть передвижение неприятеля, но и посчитать его количество. Затем написать донесение, пусть безграмотное, но лаконичное и понятное.
Для русского книжного рынка кто-то проделал очень большую и дорогостоящую работу. Оригинальные книги, например, тех же Гриммов – достал. Тогда это было не так просто, даже во Франции или Германии. Эпоха массовой печати только начиналась; книги были дороги и издавались малыми партиями. За нужной книгой иногда надо было ехать через пол-Европы. Или платить втридорога и ждать год, пока привезут заказ. И рисковать не дождаться. Это сейчас в Европе автобаны, а в начале XIX века асфальтирование лишь начиналось, и то в Англии, а не на континенте. Связывающие крупнейшие города главные дороги были мощёными. Ездить по ним было сущим мучением. Почему у карет колёса огромные, а экипаж просажен вниз, как яйцо? А попробуйте-ка без сверхмощных рессор, да по булыжной мостовой – незабываемое ощущение. Кстати, поломка кареты очень часто встречается в сюжетах европейских сказок. Весьма реалистический элемент: колёса не выдерживали ударов булыжника на скорости и часто слетали. Казалось бы, для монархов кареты могут сделать и попрочней. Ан, нет: ни одна коронованная особа Европы не избежала задержек в пути на сутки и более из-за поломок. Власть имущие привыкли ездить с ветерком, а тут булыжники. Император Александр I Павлович (Благословенный) на кареты вообще плюнул и старался передвигаться только верхом, благо был отличным наездником. Такое поведение считалось нарушением этикета и воспринималось, как очередное доказательство русского варварства: мол, дикий скиф на диком коне.
Купцы же, у которых рессоры «не казённые», ездили исключительно шагом. Вроде и не велики европейские расстояния, по сравнению с русскими просторами, но пока лошадки дойдут, пока обоз на всех ярмарках поторгует, пока то, да пока сё. Глядишь, год и прошёл. А товарищ франкмасон в Кракове сидит, книжку ждёт. Волнуется: ему старшие товарищи заказ дали, а он тормозит. Могут и спросить. Так, что не разогнётся. Наконец, дождался. Дальше книгу надо перевести. Русская элита – те же Пушкины, например – языки знают и прочтут в подлиннике. Но массовый потребитель чтива языков не знал. Во время войны 1812 года командование русской армии столкнулось с неграмотными офицерами. Точнее, с функционально неграмотными: подпись нацарапать может, устав по складам прочтёт и вызубрит, но понять оперативный боевой приказ уже не в силах. И при этом вполне себе дворянин. Так быть не могло: ещё по указу Императора Петра I Алексеевича (Великого) дворяне должны были быть грамотны, иначе им запрещалось не только служить, но даже жениться. Но было: некоторым офицерам приказы приходилось разъяснять «на пальцах», что в условиях маневренной войны с Наполеоном чревато катастрофой. Командование негодовало. А причина проста: фонвизинский недоросль Митрофан Простаков вырос, за взятку провинциальному начальству признан грамотным (кто проверять-то будет?!), женился и наплодил детей. Дети подросли и пошли служить. И не только в армию: другой наш герой, Александр Николаевич Афанасьев, прошёл именно такой путь. Дед его читал и писал с трудом. Зато отец, уездный стряпчий города Богучара Воронежской губернии, не пожалел розог и заставил сына «науки превозмочь». А. Н. Афанасьев отмечал, что отец уважал образование и, по окончании сыном Воронежской гимназии, настоял на его поступлении в Московский университет. Оно и понятно: розги и книги дешевле взятки, а всю жизнь уездным стряпчим служить – много не заработаешь. Имение маленькое; детей много. Иди, сынок, учись, может, толк будет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу