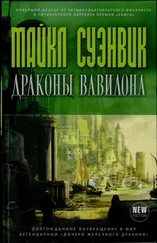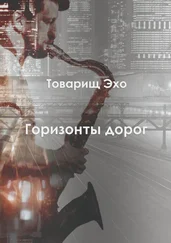Мой мудрый Джа отступает на север,
Где снежный лев бережёт подснежный вереск.
И белые пчёлы дают свой белый мёд.
Где над головою – солнце, а под ногами лёд.
Тиран всегда глуп. И помыслом, и скелетом.
Подлец связан подлостью, праведник – обетом:
Человечность – безумие, оболганное наветом.
Но ценности большей нет в мирах: том и этом.
Нудные говорят в сети: stay wise,
Чтобы успеть получить именной аусвайс…
Если не в рай, то в его преддверие,
Их слова влекут за собой недоверие.
Я ищу твои нити, норна, промеж ангельских, бесьих.
И живу в Вавилонах на правах пёсьих.
Сиречь, вне закона, пока закон в руках мрази,
Но анархия духа всегда – в экстазе.
Мы постигаем мир и разрушаем его стены;
Ненависть – это всего лишь вопрос веры.
Что до любви, то она – повсюду.
Человек был свободен и свят, и я – буду.
Ты можешь:
Раскрашивать автобусы,
Вышивать крестиком,
Разгадывать сигналы,
посылаемые спутниками,
Быть ветром и
Каждым
Его вестником.
Верить седобородому безликому
И его мультикам…
Ты можешь:
Говорить на инопланетном наречии,
Транслировать мысли с изнанки
Собственного черепа – божку любому…
Зверии ли, человечии-
Блага в том много,
Да разобрать некому.
Ты можешь быть
Круглым, квадратным, многомерным,
Просто быть вне качества
И его
Причины,
Разделять жребии и просторечия,
Заблуждений всячество,
Свойственных любой женщине,
Любому мужчине.
Только здесь – весть, —
На межи, между
Копотью,
Между огнём
Любой из войн и каждым
Её пожарищем:
Жизнь – это гигантский тест
На вселенскую любовь.
И она для нас для всех
Одна.
Пока ещё.
На улицах одиночества, в душных переулках
Молчаливых добродетелей, в садах
Всех радостей земных, закатанных в асфальт,
В молчании нечаянном и в ласке,
Которую – дарить, как дарит женщина
Влюблённому, как пробуждает первый, легкий
Ветра вздох – над городом, на крышах мира —
Свят человек; и свят, и светел
В безумии и в безоружии своих,
Когда на север устремляются все реки,
Когда все птицы, точно феникс, восстают из праха
И пепла городов, оставленных на карте мира
Следом: от гусеницы танка, сапога,
Глубокой колеи орудий, чьих имён
(Доисторических чудовищ) не упомнить.
Когда космическая пыль
В моих ладонях снежнотает,
И трубы над заводами поют о скорых
Весны, спешащих к сонным полустанкам
Далекой, безымянной целины,
Не вписанной в прогон цивилизаций.
И имя нашим жизням – миг;
И этот миг – юдоль прощения.
Курительная трубка Че Гевары
Я – маленький Иисус
в костюме кубинского партизана,
убитого в 1953-м, ровно за месяц до
окончания боевых действий у Сантьяго-де-Куба.
У меня есть брат, у меня есть сестра,
мать, отец, дед и бабка… они простили меня,
благословили меня, забыли меня,
на пустой площади. Когда-то. Должно быть, в прошлом.
Мне остались: берет и звезда,
башмаки (что не так уж и мало)
борода, сигара, винтовка…
кубинская, стреляющая холостыми,
и только в воздух, громкий и зимний, злой,
пересыпанный революцией и снегом.
Снегом чужой земли, снегом, похожим на пепел
снегом, похожим на смех, на собачий лай и песок
и на все забытые вещи разом.
конечно же, у меня есть тихая армия, спящая в коридоре,
перо птицы, гвоздь ржавый в заборе,
чад паровоза и железной дороги долгие мили,
дырявый карман и носок, и песок для часов, и секундная стрелка.
Паровой механизм приводит ее в движение по кругу…
И я должен идти за ней следом, но я ранен
в самое сердце. Пулей навылет.
Я лежу на земле, и чужой снег засыпает мое лицо
и мое лицо засыпает в нем: сначала глаза, после – губы,
щеки потом, брови и нос. Медленное дыхание
отделяется и взлетает в небо,
высоко-высоко, к самым звездам, туда,
где души (им несть числа) воздушных шаров и
воздушных змеев
зажигают вечерние звезды.
И тогда приходишь ты. У тебя тысячи лиц,
и две тысячи рук, и две тысячи ног,
в слепящем мерцании звезд
твоя поступь легка и свободна.
я не сразу тебя узнаю
не то мертвыми, не то спящими своими глазами.
Не могу разобрать черт лица, язык, температуру
тела. Каждого твоего прикосновения. Только помню,
все еще помню, насколько
они были нежны. Твою спину помню,
обнаженную, плечи, лопатки, твои ладони,
прикрывшие голую грудь.
Не лицо…
Читать дальше