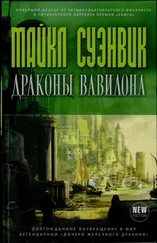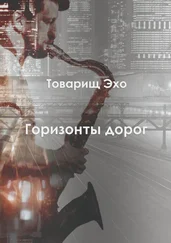Неба мясо
по живому вспахано
солнечного плуга жаром раскалённым,
И тонкие, тёплые
шрамы стянуты
стежками облачными, бесформенными.
Обездушенным телом я —
тот же шрам
на бетонной щеке города.
Обыденный между
сотен и тысяч ран
своим человекоподобием.
А глаза – застылые,
прозрачней стекла —
привычно следили птиц механику,
Царапая зло
плоскость воздуха, крыла,
впиваясь в тела птичьи, такие маленькие.
И на землю падали
комочки тёплые:
капли дождя ли, частицы падали.
Но живые всё ещё…
такие робкие,
как сердца ребячьи, в перья спрятанные.
Лис в лис, лес – в лес;
Земля и губы, запахи, грибы
(С окраины деревья отступают, обнажая
Корней систему, угол дома, рынок,
Где продаётся всё и вся, включая нас,
Где – недостаток горизонта).
Я складывает вечер как конструктор,
Скрывая лица, руки, листья.
Труху в ладонях.
Луну в сети высоковольтных линий.
Забитый прошлым годом водосток.
Мы – полые внутри.
Мы замираем к ночи, тени, тени,
Впадающие, словно реки, в бездну,
Полную глаз, впитавших небо,
Уже не дети, но ещё не ветер.
Пыльца, стремящаяся на восход.
Листва кирпичного цвета,
Кирпич застывших ветвей великанов
На окраине города/леса;
Отсюда человек начинает свой долгий,
Начинает беспечный свой путь
В космос
С его необъятной листвою созвездий.
Мир слишком молод.
Человек слишком стар.
Слишком стар, наконец, поумнеть.
Он проговаривает вселенную скороговоркой:
Быстрее-быстрее, всё то,
Что способен увидеть.
Только глаз его
Всё слабеет. Слабеет.
Близорукий, умеющий забывать
Облетает город листвой
И становится гол и прозрачен.
И листва его глаз
Обращается
К небу.
Бетон цепко держит наши корни:
Молодые стебли не дают всхода,
Сплетаются с землёй в агонии,
Спекаясь как песок в стекло к восходу.
Правдивые, мы связаны одним обетом,
Данным лжецам, скреплённым их же словом;
Оставь нам жажды оказаться светом,
И для кого-то стать верой и кровом.
Так дай нам воли жить во имя жизни
И вопреки, отравленным войной.
Мы несмышлённы, отдаёмся в тризне,
Что эхо над вселенной тишиной.
Меж пустырей высоковольтных линий,
В пространствах заблудившихся звонков
Ещё звучит ругань Эринний,
За мною следующих сворой гончих псов.
Расколотив заветные скрижали,
Апис-пророк баюкает луну.
Я-прошлое мечтает о начале;
И вожделенье ставит мне в вину.
Безумны все: и смертные и боги;
Петр скрипит в замочной скважине ключами,
Но некого впустить. И путаются строки
Блокнота жизни с прожитыми адресами.
Мира душа бессмертию завещана —
Царица Савская, блудница и святая,
В конце всегда приходит женщина.
И лютый холод отступает.
В каждом продолжении звука – точки,
Которых не спрятать:
Непостижимые поля тишины
От корня дыхания у мундштука
До оросительных систем
Твоих сообщающихся сосудов,
Несущих воды жизни,
несущих все то, что мы называем
Любовь/
твоего вдоха (когда я
слежу движения диафрагмы,
Тишайшую слаженность
мышц-
всякая алая буква голоса —
нота, стремящаяся в бесконечность)
Всякое прикосновение – знак.
Хмурый заумник читал:
Every man/
And
_woman_
Is A star
так и питай своей свободой
жажды
мир на х..ю вертится.
в этом его планида.
однажды он-таки сверзится
в зубатую бездну аида.
а пока мы забьем его поры
прокрастинацией и кастрацией.
ты лети, мой пылающий скорый,
на догматы забив гравитации.
ты лети, мой пылающий скорый,
над равниной конца без и края.
я – всего лишь ребенок, который
со вселенной в несмертье играет.
пусть на иглах кощеев покоятся
чьи-то всячества и одиночества.
на х..ю вся вселенная вертится,
прославляя моё скоморошество.
мы от детства отняли кусочек
ясноглазой несмысленной ереси,
одиноко звенит колокольчик
и христосы бродят по вереску.
одиноко звенит колокольчик,
и христосы бредут одинокие,
укрывая в куцых котомочках
свои помыслы свято-убогие.
промеж космоса и бесконечности
в полинявшей заношенной ветоши
побирается не человечество,
непутевые юные нетиши:
только небо над нами неспешное
с леденцами цветными планетными.
мы – безгрешные и потешные,
остаёмся бесплотными, вечными.
Читать дальше