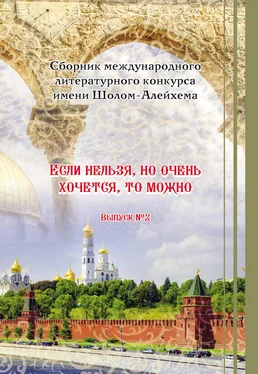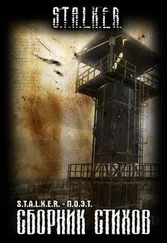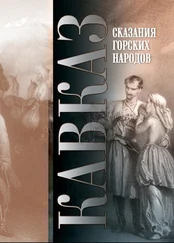По улице моей который год [38]
Не пролетают певчие трамваи,
Они в депо забытом сбились в стаи,
Чтоб совершить последний перелёт
В далёкую страну разбитых грёз,
В печальный край несбыточных желаний,
Нечаянных чужих воспоминаний,
К несчастью, не воспринятых всерьёз.
Бесповоротен путь. Уже пора
Трамваям стать бесформенною грудой.
Прощальный клич вожак их красногрудый
Издал, перебудив народ с утра.
Услышав этот, полный боли крик,
Апофеоз мучительных агоний,
Смахнул слезу натруженной ладонью
Измученный бессонницей старик.
Трамвайный клин взлетает в облака.
Щекочет ноздри едкий запах дыма.
И тает бледный свет неотвратимо.
И падает безжизненно рука.
Фотографом обещанная птичка
Из детства всё никак не долетит.
На фото – я, девчонка-невеличка,
И у меня слегка надутый вид.
Фотограф мне рассказывал про птицу,
И я ждала, дыханье затаив.
Но вот уже, готовая скатиться,
Дрожит слеза. И уничтожен миф.
Поник порхавший бабочкою бантик,
Мгновенно потеряв свою красу.
Ах, объяснять не надо, перестаньте!
Я знаю: птички – в поле и в лесу.
Им тесно в рамке фотоаппарата,
Они привыкли к высоте небес.
И я порой персоною non grata
Вдруг чувствую себя в стране чудес.
Но и сегодня жду, как в детстве, чуда.
И чудеса случаются – во сне…
А птички – нет, и никогда не будет,
Её напрасно обещали мне.
Лежит воротничок матроски косо,
И галстук отклонился от прямой.
Устали быть приглаженными косы,
И я устала. Я хочу домой!
А где тот дом? И где родные лица?
Но – стоит на мгновение заснуть —
Ко мне из детства вылетают птицы —
Надеюсь, долетят когда-нибудь!
А может, это вовсе и неплохо,
Что, пережив сто жизней и смертей,
На поле я взойду чертополохом
И буду там распугивать чертей,
Чтоб не приблизилась лихая сила,
Бежала от тебя, как от огня.
Я ничего у Бога не просила,
Но вот прошу – чтоб ты любил меня,
Такой, как есть: то сдержанной и чинной,
То ветреною и дразнящей плоть,
А иногда – сердитой беспричинно
И потому готовой уколоть.
…Расцветят небо яркие сполохи,
Короткую рассеивая ночь.
Задев случайно лист чертополоха,
Ты тотчас же отдёрнешь руку прочь,
Того не зная, что провидец-случай
Тебя нарочно вывел за порог,
Что это я взошла звездой колючей
На перекрёстке всех твоих дорог.
В подвальной комнате в три на три коек провисшие сетки шаркали по полу, истерически повизгивая, будто боялись боли тех, кто на них лежал. Это были мы, девять родильниц.
Тошнотворно пахло потом, клопами и кровью. Тараканы внаглую шуршали по землистому линолеуму при полном свете.
В голове постоянно тикал будильник, чтобы не проспать утреннее кормление: если б ровно в пять тридцать мы не поднялись наверх, на третий этаж, детей бы накормили донорским стафилококковым молоком.
Раз в день приходила старая усатая санитарка. Лениво бранилась: «Разлеглися тута, кор-ровы!» Она с порога высмаркивала ведро воды с хлоркой прямо под кровати. Эту воду мы выгоняли по очереди.
– Каждой бабе в жизни, девки, забрюхатить нужно: от мужика свово и от хахаля хучь разок. И енто… поскребстися… – свято дело. Чай однова живем, – короткий басовитый хохоток.
Под аккомпанемент возни тряпки по зашарканному полу бормотание санитарки становилось все более злобным.
– Как хохлатки под петушков подставлять, небося, не кукожилися. А нонеча стонают тута, чисто цацы великие. Прости меня, Господи!
Размашисто перекрестившись, она хватала ведро и царственно удалялась.
«Девки», одуревшие от боли, матюгались по-сапожному и доились в банки. Иногда вдруг падала цвиркающая в ушах тишина, нарушаемая лишь журчанием сцеживаемого молока по стеклянным донышкам пол-литровых подойников.
Два раза в день нас вызывали наверх. К детям.
Это был выход в «свет», и из карманов линялых халатов, зашпиленных английскими булавками, извлекалась губная помада. Ни одна из нас не выходила из палаты с синюшными, искусанными, побитыми послеродовой лихорадкой губами. Улыбки клеились ко рту модным в тот год темно-кирпичным перламутром.
Читать дальше