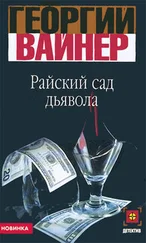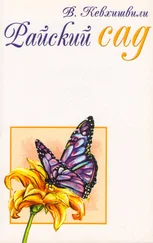Близко я, родичи, слухом и духом,
Рядышком мой окоём,
Выстланный светом, и словом, и пухом
Веры,
А тем и живём.
Копятся тайны любови и гнева –
Вызнает, кто помудрей…
Светит листва православного древа
Свитками азбукварей.
«Я не могу весёлых песен петь!» –
Пою певцу печальному вослед
(Он, может быть, печален и в раю?)
И музу старомодную мою
Не вывожу стеснительно во свет,
В причудливую шёлковую сеть.
Да и сама не столько хороша,
Чтоб дивовать собой капризный люд:
Меня в садах растила Дар-гора,
Моим стихам устраивали суд,
Стесняясь поэтических причуд,
Отпетые ребята-бисерá –
Спасибо им, что выжила душа!
Ещё она повадилась летать
На пажити отцовских Житне-Гор:
И в Житне-Горах,
и на Дар-горе
Давно, ещё при батюшке-царе,
Сияли церкви.
Живы – с эких пор! –
Они не дали душу расплескать.
Такое счастье.
Видно, неспроста
Душа глядела сызмала на Спас,
В премудрую Евангельскую даль –
Премудростью же множится печаль…
Такое счастье выпадает
Раз
И навсегда, до самого креста.
Куда мы едем ночью на подводе?
От взгляда солнца волчьего укрыто
Шершавою рукою материнской
Татьянино бессонное лицо.
О, Господи!
Уже тогда – Татьяна,
Тогда уж с полным именем носилась,
Как с расписной, набитой чудом торбой,
Дни обживая, словно погремушки.
Но, чтобы косы выдались на славу,
Чтоб змеями любовными взвивались
Над будущими радостями жизни,
Была Татьяна долго стригунком,
Шершавою рукою материнской
И ножницами стрижена «под ноль»…
О, жеребёнок, мчащий за телегой,
Ты всё ещё летишь дорогой к дому
По чистой тверди памяти Татьяны!
Забыла столь всего – дорогу помню
Сквозь многолетье лунное, степное,
Лесное, огородное, речное,
Туда, где мне и пять, и семь, и десять
Всё исполнялось лет,
всё исполнялось,
Туда, где всё встречали и встречали…
Меня вносили в старенькую хату,
Закутывали в сонные одежды
И спать велели под приглядом света,
Незыблемо парящего в лампаде
Пред ликом строго-доброго святого
Там, в глубине,
в старинном возвышенье…
Шершавей, тяжелее материнских
Всегда бывали бабушкины руки,
Что в сон меня тихонько опускали…
Когда же утро – петухи с подзоров
Кричали, замиряясь с петухами
Зари, а те – с дворовыми, живыми,
А над столом струился пар молочный
Из голубой, а может, красной кринки.
Такой всегда была дорога к дому.
Она в душе на донышке осталась,
Горчит домашним сладким молоком…
Иду к мосткам – узлом тугая скатерть, –
Чтоб колотить бельё, шагая вброд,
Пока мой дед не остановит:
– Хватит! –
И речку у меня не отберёт.
В нём вымах стати, удали, простора,
И, напролом идя через дворы,
Он сам похож на Житне-Горы,
Такой он с незапамятной поры.
И я, в себе его почуяв силу
И крови буйный и крутой замес,
Во всё, как он, напористо входила,
Глаза в глаза – всему наперерез.
Когда мой дед, такой могутно-древний,
Из-под широкой поглядит руки,
Я знаю, на краю родной деревни
Под этим взглядом крякнут мужики.
Я знала – сплю, я знала – сон,
И значит, дело поправимо!
Пускай, пускай ведёт крапива,
За руку тянет под уклон
В глухую темень, в жёлтый просверк,
В кудлатый мрак над головой,
Пускай теперь поставят прочерк
Взамен судьбы моей живой –
Ведь я проснусь!
И я проснулась.
Настуня домывала пол,
Удобно подоткнув подол.
Трава щеки моей коснулась,
Но раньше – мягкий травный дух
Возник и медленно потух,
Вернее, я в траву вдышалась…
– Ах, Настенька, такая жалость!
Не досмотрела страшный сон:
Тянула за собой крапива,
Тащила вроде бы в полон!
– А я до свету окропила
Водой серебряной углы,
Ведь завтра Троица Святая!
Вставай, теперь легко светает.
А сны худые не хули:
То души бабушки и деда,
Переборовши столько лих,
От незадачливого дела
Остерегают, слушай их!
Убрали дом лесной травою.
В отдохновенье гостевом
Брожу окрестностью рябою
В далёком нимбе дождевом.
Покой и нега.
Бесконечность
В стереопении цикад,
Куда ни гляну наугад –
Во всём такая долговечность!
С налёту взять кувшинок храмы
Утята пробуют, галдя.
Всё ближе дождь, всё ниже травы
Как бы в предчувствии дождя.
Паук по вдовьей паутине
Вот-вот ударит стрекача,
И на церковной золотине
Луч оплывает, как свеча…
Читать дальше