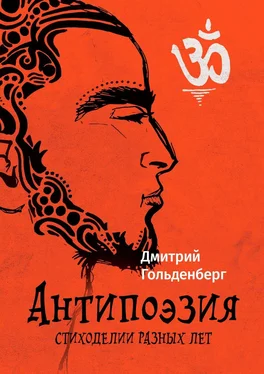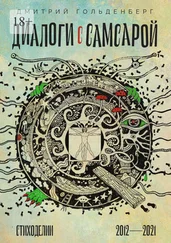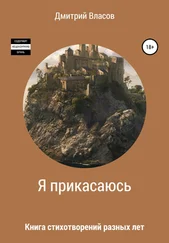Мне хотелось примитивизма, просто потрахаться, просто потрескать,
Наблюдая, как в «ящике» кровоточащая треска враздрызг обрывает леску.
Брось плесенью покрываться, карликовое солнце в перламутре блюдца!
Брось казаться любовью мне, пара карих глаз под копною русых волос!
Ты же просто мираж, терпкий плод подростковых полюций,
Наркотический вдох, до которого нос мой ещё не дорос.
Ты же просто сомнения червь на крючке в мутноводье событий.
Ты прогнившее семя чернильное, инфертильное для соитий.
Смегма слипающихся очей на заснеженном полустанке ты,
Как же дерзко въезжаешь в чужую столицу на танке ты!
Но и я, готтентот, губошлёп, ротозей,
Как хорош же я, лапчатый гусь, нашпигованный яблоками,
Весь, и в профиль и в фас – Колизей,
Густо обкаканный зябликами!
Всё началось со случайно порванной мною банкноты.
Продолжилось шахматным матом проколотой шины.
Под ногтем саднило, раскалывалась голова.
Телевизор гудел и пытался выбросить содержание экрана на пол.
Фаллический ящер бешено бился в нору, кролик
Судорожно дрожал от страха и от мазохистского удовольствия,
Вызванного близостью смерти.
Наука крутила ус и поводила бровью от таких поведенческих вывертов.
Через проходные дворы – в гастроном.
Через прорехи в сетевых протоколах – на ту сторону добра и зла.
Воскресная виолончель заставит клавиатуру выстукивать коленца.
И – любовница, случайно задушенная боа-констриктором полотенца.
Мальчик невинный, голый, дрожащий, у алтаря.
Жиром сочащийся пастор надвинулся сзади, во имя Отца и Сына…
Чёрно-красным готическим шрифтом блюет пишущая машинка.
И – проститутка, демонстрирующая жезлом проколотую резину.
Сегодня десять табу, из которых сделали жупел,
Пустятся в танец-канкан.
Двенадцатигранный стакан,
Под которым бегает таракан,
Пойманный Николаем Плотником,
На глазах удивленной публики превращается в соборный купол.
И – чистая, словно слеза политического переворота,
Двадцатидолларовая порванная банкнота
Спит мертвым сном, словно птица, подстреленная охотником
В высшей точке полёта.
У блёклого нечто тоже есть имя,
Город, рост, вес и размер ботинка.
Есть тонкая линия,
Прочерченная глазом
Между потерей разума единообразно
И потерей разума раз за разом, —
Такая картинка
Рисовалась мне, в паранойе,
В распаде дошедшего до последней стадии.
Нарисовать бы, да не Шагал я.
Я не родился в военном Ханое.
Тощим ребенком в Освенциме в печь не шагал я.
Родился в брежневском Ленинграде я.
Мне – пистолет бы, да косточек вишен,
Бандитом шалить, избегать еле-еле поимку и петлю
Для шеи куриной.
Мне – бунтовать и Попокатепетлю
В жерло вулканье, да с наглою миной
Смотреть и твердить «комментарий излишен».
Сирый мой дух меж двух комнат
Тело терзает презренное, бренное, словно вдох-выдох
Астматика в доме без лифта.
Милый мой мир возлегает расколот,
Останки аквариума на полу. Только трупики рыбок
И куцые кубики буковок Нового Римского шрифта.
«В позе профессора кислых щей, занятого бичеваньем кнутом
Собственной тощей задницы и скармливанием пряника
Чувственным, жадным губам», —
Таким заказал я портрет свой художнику, оказавшемуся бывшим ментом.
Он же всё жмурился и куражился полупьяненько,
Как подобает жлобам.
Позируя, думал о наболевшем,
Мечтая о повести или романе я
По мотивам своей половой распущенности.
Из правой руки моей, пожелтевшей,
Прогнившей от писанины до основания,
Вытечет в эпилоге слеза непреложной сущности.
И рецензент, в комментариях попотевши,
Красною нитью повествования
Зафиксирует комплекс авторской многосложной ссученности.
Арабеска моя, как же нравится мне
Наслаждаться твоим стройным телом газели,
Не стесняясь, разверзнувши ставни в окне,
Чтобы все проходящие мимо глазели!
О, царица еврейская, ты Низевель ли!
Как же струны души моей, видя тебя, зазвенели.
Так отдайся же мне, тыщелетнюю грусть поколений оставив на час (или два).
Я Амура стрелою сражен, лишь дрожит в синеве тетива.
Читать дальше