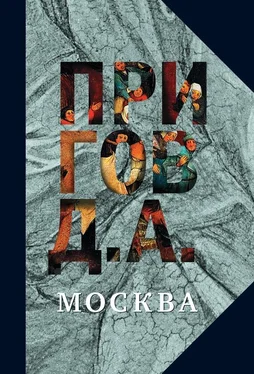Я был даже прекрасен в своей изможденности почти до синевы, в своей абсолютной беспомощности. Парализовенький! Впоследствии никогда ничьим, увы, любимцем я не был. Не был! Не был! Не был! И тоже, думаю, заслуженно. По причине вредности своего характера, испорченного вследствие всего вышеперечисленного, а также многого другого, набежавшего позднее. Но так хотелось. Да ладно.
Так вот, избрав меня любимцем, сама изможденная, потеряв, видимо, на войне всех своих родственников, детей и внуков, не имея иного утешения, кроме насельников нашей смертообитаемой больницы, она садилась рядом со мной и начинала выделывать из теплого не затвердевшего еще парафина разнообразные фигурки коз, коров, ангелов, людишек, кошек, свинок, машин, автоматов, рогатых чертей, солдат, чашек, самолетов, даже почему-то самовар. Все это невероятно похоже. Она была истинный талант. Если бы не чудовищные обстоятельства нашей чудовищной жизни, смогла бы она на старости лет в окружении доброго семейства на пенсии стать счастливой знаменитой художницей, наподобие той, не обремененной никакими подобными подлостями существования американской бабушки Мозес. Она демонстрировала мне прихотливые продукты ее рук и фантазии, уверяя, что, когда я подрасту (если выживу, конечно, – в тех местах никто не скрывал ни от кого реальной возможности подобного результата), непременно стану лепить такое же забавное, радующее чужие сердца. Особенно же фигурки разнообразных детей в воизмещение не могущих появиться на свет естественным путем. И вправду, впоследствии, став не последним московским скульптором, однажды изображая из сырой холодной глины некоего дитя в окружении других глиняных человеков в городе Калуге, я услышал за спиной чувствительный вздох. Обернулся. Пожилая женщина, столь похожая на мою достопамятную няню, горестно склонив голову, глядела на это неестественное дитя (кстати, в три натуральных размера, то есть почти в ее собственный рост) и шептала:
– Вот мне бы такого!
– Что? – не расслышал я.
– Мне бы такого ребеночка, – безнадежно вздохнув, она отошла.
И это не выдумка. Справьтесь у Орлова. Мы вместе с ним сооружали тот огромный глиняный барельеф. Среди прочих фигур, прижавшись к глиняному животу своей пятиметровой матери, стоял этот младенец. Спросите Орлова, он подтвердит. А не подтвердит – ну что же, не жить, что ли?
Однако все разрешилось счастливо, естественным путем. Дети снова стали появляться на свет нормальным образом и совсем, на удивление отвыкшим от подобного родителям, небольные. А я, самое поразительное, как вы уже знаете, стал скульптором, производителем на свет всякого рода лепных фигур и вещей. Вот все, если вспоминать про то, как мы болели, были недвижны, неспособны к жизни.
Ну, а если вспоминать, как мы играли в футбол, то это – совсем уже другое. Совсем иная картина получится. Но тоже неплохая. История про то, как я играл за детскую футбольную команду КрПр – завода «Красный пролетарий». Название прекрасное! Даже несколько пафосное. Пролетарий тогда был у нас везде. И везде он был, ясно дело, красный. Но стадион у этого «Красного пролетария» оказался всего один, прямо по соседству с моим Сиротским переулком. Детей как раз в ту пору народилось видимо-невидимо. Они забивали все дома и утлые квартиры с мелкими комнатенками до полнейшей невозможности обитания в них, выплескиваясь, вываливаясь наружу, заполняли все дворы и ближайшие к домам пустыри. Одни из них, пробираясь сквозь густые толпы других, на замечая даже их, сшибали с ног, затаптывая, – дети все-таки неосмысленные. Найти потоптанных, задавленных, чтобы хотя бы захоронить по милому христианскому обряду, в этом скопище было практически невозможно. Отчаянные яростные родители, бросаясь на их поиски, в свою очередь, затаптывали многих других и зачастую затаптывались сами другими родителями, а также толпами подоспевавших новых детишек, хоть мелких, но неудержимых тотальных в своей массе. Картина, скажу я вам, даже для недавнего обитателя дома парализованных, не из ласковых. Тяжелая картина. Но я, мы все перенесли и это. Стерпели.
О, допионерское детство! Нам, октябрятам, пионеры казались некими высшими, избранными существами. Мы были предназначены вырастать в них, становиться ими. Но ведь никто не гарантировалнам этого. Дело даже не в том, что нас могли затоптать задолго до того, что вполне понятно. Но мы могли быть просто не принятыми в пионеры по недостойности поведения и характера. Это ужасно! К счастью, подобного тогда почти не случалось, поскольку всетаки все мы являлись достойными, хоть и малолетними, членами прекрасного передового общества, которое ни на минуту не оставляло нас своей заботой и идеологической опекой, не допуская в этом практически ни одной осечки. То есть стать недостойным не было никакой практической возможности, даже очень того желая. Легче было быть затоптанным. Пионерам же, счастливо по случаю выжившим, незатоптанным, в свою очередь, такими же высшими существами представлялись комсомольцы. А комсомольцам – партийцы. Простые партийцы. Простым партийцам – партийцы уже непростые, то есть руководящие работники. А руководящим работникам – работники, еще более высшие, так называемые лидеры и вожди. А тем уже – сам Сталин. А самому Сталину – тоже Сталин, но в некоем, что ли, трансцендентном смысле и образе, умалившись в собственном смирении и преизбыточествующей любви к человечеству, явившийся Сталину как бы в образе простого вочеловеченного Сталина, то есть самого себя самому себе для себя и через то для всех прочих. То есть как бы слившейся единой сущностью, со стороны не различимой в своем мерцающем многообразии. Только он сам был полностью и до конца в курсе этого таинственного дела. Способен разобраться в тончайших дефинициях. Всем прочим оставалось лишь догадываться. Для нас же он был просто – Сталин. Сам во всем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу