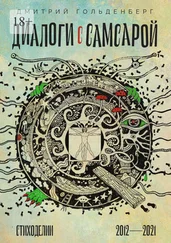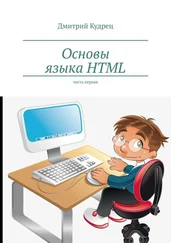Но есть ещё и порох, есть и пыж,
Напыжимся – найдём тебе и пулю.
Но есть горох и город и крепыш,
На белой лошади везущий в замок дулю.
Но есть – горох, картоху, сельдерей,
Свинины шмат сожри, баранью ногу.
Но есть Вергилий, эквилибр, хорей,
Есть звездолёт, причаливший к порогу.
А кто придёт при смене батарей,
Кому – айда – мотаться с пацанами?
А где притон пропащих вратарей,
Торгующих разбитыми сердцами?
А где: жетон, билет, миньет,
Где сфинкс, где сфинктер, плотский мир оргазма?
А вот идёт мужской кордебалет,
И с мышц стекает, с потом, протоплазма.
И нет уже ни пива ни вина.
Вины, истца, виновных, жертв и судей.
И нет уже ни рамы ни окна,
Ни заоконного, а есть лишь хрен на блюде.
И раки есть, а пива – как назло.
Лишь конфетти да брызги лимонада.
И Зевс бросает тонущим весло
И тянет в направленьи Тринидада.
Пунктиром между пошлостью и китчем
И огурцом между горчицею и кетчупом,
И огольцом, довольно оголтелым,
И голотелым, с двойственным концом.
Юнцом, когда бы не – морщинки глаз.
В подбрюшнике – скопленье жироклеток.
Уж сед закоренелый водолаз,
Охочий до смазливых малолеток.
Вот пуповина меж вселенных параллельных.
По ней летит метафор строй и сцен постельных.
Пастель ландшафта, флейты пастораль,
Эммануэль, Мишель, а после – Паскуаль.
Рейсфедером по ватману скачки.
Как гибко, хищно тело женщины-гепарда!
На щелбаны играют простаки.
Во лбу у каждого – алмазная кокарда.
Концы в воде и пьяные юнцы.
Глаза кондуктора – миндалины на блюде.
Минуты три до выхода в сенцы.
Три мига до известия о чуде.
Три выдоха до третьих петухов.
Четыре такта до экстаза, bona fide.
Низам не достучаться до верхов,
Верхи шампанью запивают мидий.
И, радугу попробовав на вкус,
Сиди и заправляй носки в ботинки.
Макай в кефир печенья половинки.
Лапша с ушей, мотай её на ус…
Надрезав ногтем белый шар,
Войдём в его сиянье белое.
Выгравирован твёрдый шанкр
На рукоятке в парабеллуме.
Там, в сердцевине, в церебеллуме,
Водитель тумблерами щёлкает,
Танцует шимми, пришепётывает,
Как ёлка, нашпигован клеммами.
Синдром Туретта – теоремами,
А василисков – аксиомами.
Дави ефрейторов – големами,
А небо – подпирай колоннами.
Пройди святого Витта пляскою
По всем фронтонам с ассамблеями,
Сведи патрициев с плебеями,
Своей потрясывая ряскою,
Монашескою или же морскою.
Зажги идею дерзкою искрою.
Звезда моя, Варвара Гутентаг,
Вонзи в мой анус чёрно-белый штяг.
Зашей суровой ниткой белый шар,
Взашей прогнав себя за грань сиянья,
И в темноте затихни, причастившись знанья,
Шампанью затушив его пожар.
Варвара, передав Варнаве свечку,
Не суеверя, прикурив от пламени,
За ограбленьем, выдохнув колечко,
Вдруг, вздрогнув, вспомнит о секретном знании…
Деревья бряцали жестяными жетонами лиственности,
Брехуны лопотали на картинно отмирающих наречиях.
Татуировщики татуировали татуировки на лодыжках, плечах и предплечиях,
Писари писали письмена о письменности и условности понятия действительности.
Хохотуны хлопали и хлопотали о хлопчато-бумажной промышленности,
Топтуны топали, лопали и лопотали о единственности троицы и её двусмысленности.
Альма матер прославляла могущество фатерлянда и пела осанны истеблишменту,
Племянницы же крутили попами в ритм неизбываемо перманентному.
Прецедент, созданный совокупностью предпосылок и обстоятельств,
Уподоблялся великой прилюдной порке, вызванной цепью мелких кощунств и предательств.
Величественно витийствующий президент был до рези в мошонке искренен и озабочен
Эффективностью коэффициента облапошиваемости империи, облапошивать каковую он столь торжественно уполномочен.
«Обезьяна, игриво содомизирующая сторожевого пса» —
Панно, висящее в кабинете директора.
Сжатые тисками тел двух чёрных рабов обвислые чреслеса
Обозревает глаз, внезапно прорезавшийся на конце резинового эректора.
Белкин-Стрелкин, выпущенный из жёлтого дома,
Носится меж домами терпимости, аки камень, выстреленный из пращи.
Нестор Гуляй-Поле решает жить по к/ф «Сало, или 120 дней Содома»
И принимает новое имя Пьер-Паоло (Пётр Павлович) Ищи-Свищи.
Читать дальше