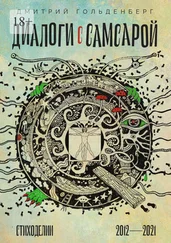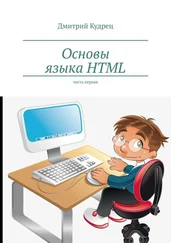Вертолётчица, опростоволосившись, юная, ты тщетно ищешь свою иглу.
Стог пахнет травами сочных лугов, статуэтка моя, на которых пастись лишь сохатым.
Я заученным по фильмам ужасов движением завожу только что купленную электропилу,
И позирую для твоей картины, предварительно озаглавленной «Русско-американский еврейский Геракл, расщепляющий атом».
Звёздочка, под ней – стишок. Под стишком – звёздочка.
Ёлочка, под ней – мешок. А в мешке – ошейник, плёточка.
А в ошейнике – шейка, тонкая, кожи перламутр.
Чёрная помада, бритая головка, сонм моих бессонных утр.
Истины игла запрятана в хрустальное яйцо.
Хара Кириленко, ремешком за спиной свяжу тебе я руки.
Золотым дождём тебя омою, разбивая бег струи о твоё лицо.
А вкусивши игр, мы с тобою зачитаемся Харуки.
Палочка, над ней – точка, ёлы. Вилы по воде – аква-письменность.
Свечечка едва-едва теплится. Нолик обрамляет крестик.
Окнами на южную сторону взирает дом в окрестную лиственность.
Он среди своих именуется «Театр Мажестик».
Пестик в колоколе, в яблоке Адамовом – червячок-с.
С парадигмой движется по фазе в танце – новый парадокс.
Как верёвочке ни виться, знай, мотай на ус.
Заинтересуется полиция штрипками твоих рейтуз.
Чёрточка, под ней – штришок. Под штришком – точка.
«Фишка» трудится, землю носом роя, чтобы стать синонимом термина «примочка».
Отражает зеркало беспристрастно красоту твою, омытую золотым дождём.
Мы с мумификацией твоей сегодня малость подождём.
Веточка, на ней – почка.
Корешок, вершок, крапива – к семени.
Тычинка и к ней, как водится, пестик.
На дворе – бессонная ночка.
И, Титаником, тонет в океане времени
Мой Мажестик.
Капли росы отражают окрестности и друг друга.
Бесконечный калейдоскоп отражений.
Между отцом и внуком, между сынами Востока и Юга
Крепок предутренний сон, вожделеющий изнеможений.
Крепок узор сети превращенческих логик.
Горностаевой мантиею ты прикроешь мою наготу.
Лаптем хлебая щи, царь параллельно читает только что присланную бересту.
Взором пронзая толщу столетий, через плечо подглядывает историк.
Пива и женщин. Хлеба и зрелищ.
Кабальеро уносит качан капусты, запахиваясь в ниспадающие полы плаща.
Жнец вытатуировывает себе на ноге сакраментальное «Что посеешь…»
Железная галка уносит в осенний туман серебряное стило Ирода, крыльями ржаво-несмазанными скрежеща.
Ты – медленно снимаешь лифчик и, склонив голову, нервически покусываешь губы.
Он – выжидательно помахивает хлыстиком около своих отутюженых галифе.
Каудильо, выйдя на площадь, совершает тщательно инсценированное аутодафе.
Ангелы спонтанно совокупляются и дуют в бумажные трубы.
Между стаканом и косяком – птиц, красочно пересекающих японское небо моей светёлки,
Проплывают аквариумные рыбки.
Мясо, свисающее с боков голой реальности, выбежавшей в поле, жрут тощия серые волки.
Их силуэты и зябки и зыбки.
С эффектом в городе сонном, приморском внезапно грохнувшей взрывом гранаты
Сетевой вирус поражает род человеческий, передаваясь через кудлатых птах.
Я изъясняюсь с тобой исключительно на наречьи пернатых:
«Mилая, зы шо намедни такелово нащебетах!»
Дуй же, дуй до горы, о горбатая Фи, понукая есей.
Янукарий городит ворота в твои чреслеса, фараон-фарисей.
Корифеи фланируют, фоном-феерией жирных ферзей,
Лишь доносится пощелк клестов да касторовый скрип прохарей.
Корнеплод саблезуб. Гипрогор близорук. Болеслав, часослов
Отложив, погружается в метафизику литургических песнопений.
Янукарий, инструментарий выгородив из фараоновых чреслесов,
Колдовством-ворожбой заметает следы преступлений.
Укрывает метель каллиграфию свежих следов на снегу,
А меня всё несут чёрт-те знает какие причины в ночную пургу.
Минус тридцать один на термометре, вечность – на ржавых курантах.
Вермишель на ушах, строки Дао де цзин – в транспарантах…
я должен победить примат рифмы над метафорой
мой фтор – фарфоровый
в моей постели – Захар Архимедов с тётей Глафирой Суворовой
Читать дальше