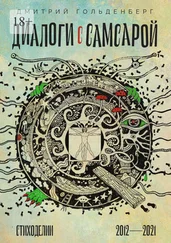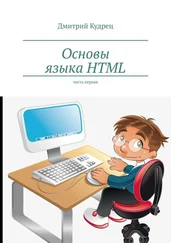Птичий язык осени зашифровывает музыку декаданса в винил садовой дорожки…
Семь тел на татами: женщина и шестеро мужчин – оргия.
Жених влетел в квартиру с цветами, с ленточкой ордена Св. Георгия.
Невесту искали долго и неспеша. Отыскав, выдали замуж за семерых.
Севостьян, заскучав в тёплой компании, вышел на улицу поискать свидетелей-понятых.
Сел осёл на вертел. Ветер осел в вертепе. Теперь ветру весело.
Внутри меня – пусто, грустно, похрустывает квашеная капуста, горит белая злость.
Сирые, ввергнуты вверх тормашками в экзистенса гниющее месиво.
Тело отбрасывает голову, словно бриллиантовый набалдашник – классово сознательная бамбуковая трость.
Боль – горлом. Орёл мог бы многого. Член, посыпанный кокаином – в логово.
Я разбил руку о стену, вычитывая подстрочные комментарии из заоконного.
Карма шарманщика, зев почтового ящика, ящерица, татуированная внизу живота.
Садист – по матери, душит мазохиста на кровати и хлещет плёткой попавшегося под руку кота.
Были, потели, икали, шарахались от собственного маразма.
Потусовались, выпили, покурили анаши, осталась – молью траченная протоплазма.
Остались строки, нечленораздельные звуки, старые брюки, челюсти в стаканах.
И теперь нас по очереди трахают рогатокрылые ангелы в чёрных гетрах и розовых сарафанах…
Любовь и Ангелы. Часть II
Чёрная синь, жёлтая сыпь, кожа пергаментная.
Небо – бесконечно, как его высочество одиночество без имени-отчества.
Геометрия – перманенто-тюремная; музыка – соответственно – камерная.
Седой старик в углу, сидя в луже мочи, бормочет пророчества.
Дали по морде в Латинском квартале, огрёбши, уносишь домой ноги.
Старая шлюха в моей пропитавшейся потом постели ломает комедию недотроги.
Вселенский клитор заплакал звёздами, главы держав обменялись коммюнике и пёздами.
Евнух любуется страусиными яйцами, словно кукушка – гнёздами.
Чистая блажь, грязные трусы в чемодане коммивояжёра.
Сопливый мальчишка пытается разбудить мёртвое либидо дядь Жоры: дядь Жора, а, дядь Жора, ну, дядь Жора!
Хрен не слаще редьки, горек яд, струящийся в глотки голых голодных наяд.
Ну, а то, что мне сегодня светит оттрахать в задницу ангела, это навряд.
Любовь и Ангелы. Часть III
Колыбель ли это? Ангелы раскачивают гамачок; в гамачке – морячок.
Морячка по очереди оприходуют: пехота, артиллерия, военно-воздушные силы.
Чем приглянулся им так сей восемнадцатилетний крестьянски сложенный мужичок?
Однако, не его ли упругая попка объединит разрозненные элементы армии наподобье Аттилы?
Члены сената осыпают бриллиантами двужопых чудовищ с оглядкой на мальчиков-слуг.
Гладиатор ставит императора раком: я Родине-матери – брат и товарищ и друг.
Плагиатор жуёт промокашку, после – целует руки классику и сосёт его неповторимый, словно из гипса вылепленный, длинный и толстый член.
Классик – рассеянно кончает ему в рот и милостиво помогает подняться с натёртых колен.
Ангелы наблюдают и аплодируют стоя.
Аплодирующих ангелов наблюдает и регистрирует Гойя.
Гойю охватывает бес-причинно-на-следственная паранойя.
Императору, чьё лицо искажено удовольствием и болью одновременно,
Подносят персик, вымоченный в вине.
Выплюнув косточку, крикнет он: «Как же всё в мире нашем ёклмн-енно!
Ангелы небесные, несите меня к полному Ёклмн!»
Институтка обвивает ногами цилиндрический субстратум,
Падающий на постель сквозь окошко в наклонно-покатом потолке.
Цифровые карты галактик перекочёвывают на её белую кожу.
Поп Вергилий Васильевич Вермишелин в своём приходе слывёт кастратом.
Вселенская ядерная затворница вешается на кушаке
В то время как кавалергарды расписывают фломастерами прихожую.
Бич Божий, предводитель гуннов, вытоптал траву в одной четверти поля зрения Вишну.
Кок колол колом колокол, Винт выл волком.
Картина «Кубатура яйца» требовала отточенности деталей и зримой конкретики.
Шарлемань кажет пружинистый кукиш в стиле «лампочка Ильича, заарканившего на обещание светлого будущего Ильиничну».
В ответ ворогу Светлейшая именует пестуемый ею помёт Святополком,
Выдаивая архитектоническую мощь из переизданного учебника арифметики.
Читать дальше