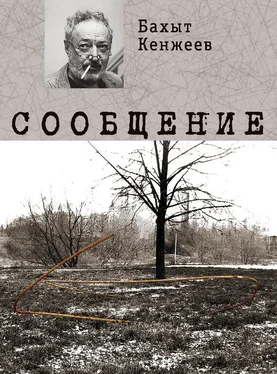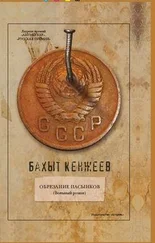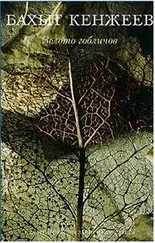«Листопад завершается. Осень…»
Листопад завершается. Осень
мельтешит, превращается в дым.
Понапрасну мы Господа просим
об отсрочке свидания с Ним.
И не будем считаться с тобою —
над обоими трудится гром,
и небесное око простое
роковым тяжелеет дождем.
Все пройдет. Успокоятся грозы.
Сердце вздрогнет в назначенный час.
Обернись – и увидишь сквозь слезы:
ничего не осталось от нас.
Только плакать не надо об этом —
не поверят, не примут всерьез.
Видишь, холм, как серебряным светом,
ковылем и полынью порос.
И река громыхает в ущелье,
и звезда полыхает в дыму,
и какое еще утешенье
на прощание дать своему
брату младшему? Мы еще дышим,
смертный путь по-недоброму крут,
и полночные юркие мыши
гефсиманские корни грызут.
И покуда свою колесницу
распрягает усталый Илья —
спи спокойно. Пускай тебе снится
две свободы – твоя и моя.
«Растрачены тусклые звуки…»
Растрачены тусклые звуки —
копеечный твой капитал.
Лишь воздух – заплечный, безрукий —
беспечно скользит по пятам.
Соперник мой ласковый, друг ли
преследовать взялся меня,
где уличной музыки угли
и ветер двуличного дня?
Беги, подражая Орфею,
ладонью прикрыв наготу,
и сердца сберечь не умея
от горечи медной во рту, —
ты загнан, а может быть, изгнан,
устал или умер давно,
ты пробуешь без укоризны
загробного неба вино —
иные здесь царствуют трубы,
иной у корней перегной —
и тают прохладные губы
бесплотной порошей ночной…
«Волк заснул, и раскаялась птица…»
Волк заснул, и раскаялась птица.
Хорошо. И державная мгла
Императорским синим ложится
на твои вороные крыла —
и созвездий горячие пятна
искупают дневную вину,
и душа, тяжела и опрятна,
до утра к неподвижному дну
опускается. Холодно, солоно,
но она убивается зря —
что ей сделают хищные волны
в предпоследние дни октября?
Счет в игре отмечается мелом,
пыль на пальцах смывает вода —
и журчит за последним пределом —
никогда, никогда, никогда…
«Запах старости – море без соли…»
Запах старости – море без соли,
горечь, выцветший лиственный йод —
обучившийся лгать поневоле
у окна волокнистого пьет.
Не прогневаться больше, облыжных
снов не видеть, не гнать наугад
площадями, где черный булыжник
втиснут в землю, соседями сжат.
И во рту не зализывать слово,
будто опухоль или ожог.
Это было моим, а чужого
мне и даром не надо, дружок.
Тишина, словно птица больная.
Перепевы судьбы никакой
повторяет старик, заслоняя
звездный свет обожженной рукой.
Не судить его давней Сюзанне,
на бумаге смертельно бело —
и бросается ветер в глаза мне,
будто камень в ночное стекло.
«Долинный человек с младых ногтей утешен…»
Долинный человек с младых ногтей утешен
беспамятством листвы, и дым его костра
полвека рвется вверх, безудержен, замешан
на ветре и песке. Ты говоришь, пора,
и утром дорогим дыханье – пеплом, сажей —
взлетит и ослепит октябрьский небосвод.
Проснется человек, и неохотно скажет:
«Я царь, я раб, я червь». И медленно уйдет
туда, где от ночной, от снежной глаукомы
наследственным лучом спускается река
в стеклянные края, друг с другом незнакомы
зеленые холмы, и левая рука,
оканчивая взмах, дрожит и леденеет,
а правая летит к ушедшим временам
без всякого стыда, как будто ей слышнее
железная струна, невидимая нам.
Вдали мерцает город Галич
(стихи мальчика Теодора)
Мало кто ожидал от моего доброго знакомого, одиннадцатилетнего мальчика Теодора, что он внезапно увлечется сочинением поэзии. С одной стороны, мальчик может целый день проваляться на диване с томиком Хармса, Асадова или Анненского. С другой стороны, сам он, по известным причинам психиатрического порядка, изъясняется с трудом, почти бессвязно, не умея – или не желая – сообщить окружающим своих безотчетных мыслей. Стихи мальчика Теодора значительно яснее, чем его прямая речь; надеюсь, что создаваемый им странноватый мир (где верная орфография соседствует с весьма приблизительным воспроизведением русских склонений и спряжений, а логика строится по своим, находящимся в иных измерениях, законам) достоин благосклонного внимания читателя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу