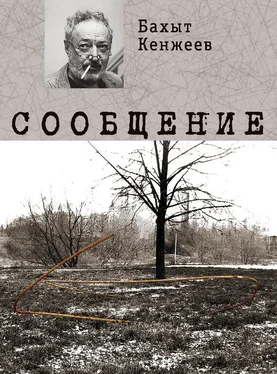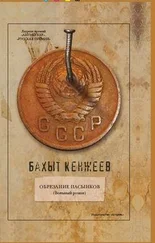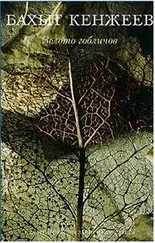«Я думаю, родина – это подснежник…»
Я думаю, родина – это подснежник.
Она – не амбар, а базар.
Густой подорожник, хрустящий валежник,
Обиженный дворник Назар.
Каховка, Каховка, родная маёвка,
Горячая пицца, лети!
Мы добрые люди, но наша винтовка
Стучит на запасном пути.
Не зря же, ликуя, Семен и Антипа
Бесплатно снимали штаны
За летнюю музыку нового типа
На фронте гражданской войны!
И все-таки родина – это непросто.
Она – тополиный листок,
Сухой расстегай невысокого роста,
Рассветного страха глоток.
Она – комиссар мировому пожару,
Она – молодой анекдот
Про то, как целует Аврам свою Сару,
И белку ласкает удод.
«Распушись, товарищ Пушкин!…»
Распушись, товарищ Пушкин!
Не ленись, товарищ Ленин!
Восставай, товарищ Сталин!
Будь попроще, мистер Хер!
Воскресай, товарищ Горький!
Слишком долго ты в могиле
Спал и видел сны, быть может,
Про распад СССР!
Заливает баки Баков,
Пикадором служит Быков,
Расставляет буквы Буков,
Много есть у нас друзей.
Если все они возьмутся
За пеньковую веревку,
Несомненно, перетянут
Всех бессовестных врагов!
Чтоб охотиться на волка,
Пете надобна двустволка,
Пусть скорей берет со склада
Свое новое ружье!
Не броди, товарищ Бродский!
А воспой свою отчизну
Акварелью, постным маслом,
Загрунтованным холстом!
Жизнь нуждается в подпорке,
Сне, описке, оговорке,
Тихо тешится оглаской,
Ветром, голосом, звездой.
Вот и место для Гефеста,
Уверяет слесарь честный,
Возводящий наковальню
Над осеннею водой.
«чем же могу я утешить латника…»
чем же могу я утешить латника
превращающегося в покойника
раскрывающего окровавленный рот
но еще пронзительнее крик путника
в чью спину вонзается нож разбойника
у самых у городских ворот
«Спускается с горных отрогов…»
Спускается с горных отрогов,
с цветущих памирских лугов
Сергей Саваофович Бугов,
известный любимец богов.
Он помнит синайские грозы,
ребячьего мяса не ест,
сжимает десницею – розу,
а шуйцей – ржавеющий крест.
Он тем, кто напрасно страдали,
нелестно твердит: «Поделом!»
Ремни его легких сандалий
завязаны смертным узлом.
Всесильный пасхальный барашек!
Покорны и ангел, и бес
спасителю всех чебурашек,
особому другу небес.
И даже писатель бездымный,
осадочных мастер пород,
поет ему дивные гимны,
сердечные оды поет.
Пусть в мире, где грех непролазен,
и мучима волком коза,
сияют, как маленький лазер,
его голубые глаза!
«то голосить то задыхаться…»
то голосить то задыхаться
переживать и плакать зря
в приемной вышней примелькаться
как дождь в начале октября
ну что ты буйствуешь романтик
я денег с мертвых не беру
кладя им в гроб конфетный фантик
от мишек в липовом бору
откроем газ затеплим свечки
спроворим творческий уют
одноэтажные овечки
в небритом воздухе снуют
и мы заласканные ложью
что светом – звездный водоем
впервые в жизни волю божью
как некий дар осознаем
«В те времена носили барды…»
В те времена носили барды
носы, чулки и бакенбарды,
но Исаак и Эдуард
не признавали бакенбард.
Они, чужие в мире этом,
где звери бьют друг друга в пах,
предпочитали петь дуэтом
для говорящих черепах —
тех самых, что шагали в ногу
и с горьким криком «Облегчи!»
наперебой молились богу
в лубянской, стиснутой ночи.
В те времена большой идеи
Россией правили злодеи
но Эдухард и Исабак
любили бешеных собак.
Жевали истину в горошек,
не знали, что Господь велик,
на завтрак ели рыжих кошек,
и в чай крошили базилик.
Интеллигент – не просто педик.
Сорока спит, попав впросак,
от злостной астмы умер Эдик,
от пули помер Исаак.
Но мы-то помним! Мы-то знаем!
Нам суждена судьба иная!
Как Афродитин сын Эней,
мы просвещенней и умней,
и, заедая пшенной кашей
прожженный панцирь черепаший,
на кровь прошедшую и грязь
глядим, воркуя и смеясь.
«меркнут старые пластинки…»
меркнут старые пластинки
мертвым морем пахнет йод
вася в каменном ботинке
песню чудную поет
и вампир, и три медведя,
эльф ночное существо —
грустно ловят все соседи
бессловесную его
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу