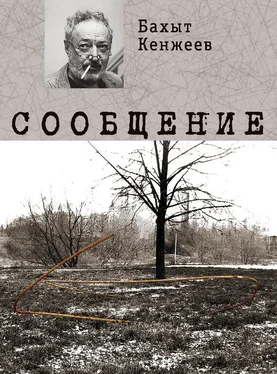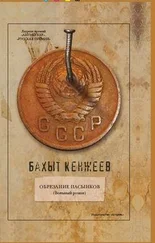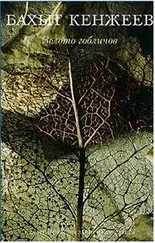Знаешь магию узнаваний средь огней и ангелов? Разве
не к магниту тянется магний? (К силе – свет, и молитва —
к язве.)
Откричусь когда, в глину лягу – успокой меня грубой
горсткой
голубой средиземноморской (к соли – ночь, и голубка —
к благу).
Ночь блаженная, ночь кривая – ясной тьмой мое сердце
дразнит.
Дождь спешит в никуда, смывая всё. И молния с треском
гаснет.
«Неслышно гаснет день убогий, неслышно гаснет долгий год…»
Неслышно гаснет день убогий, неслышно гаснет долгий год,
Когда художник босоногий большой дорогою бредет.
Он утомлен, он просит чуда – ну хочешь я тебе спою,
Спляшу, в ногах валяться буду – верни мне музыку мою.
Там каждый год считался за три, там доску не царапал мел,
там, словно в кукольном театре, оркестр восторженный гремел,
а ныне – ветер носит мусор по обнаженным городам,
где таракан шевелит усом, – верни, я все тебе отдам.
Еще в обидном безразличьи слепая снежная крупа
неслышно сыплется на птичьи и человечьи черепа,
еще рождественскою ночью спешит мудрец на звездный луч —
верни мне отнятое, отче, верни, пожалуйста, не мучь.
Неслышно гаснет день короткий, силен ямщицкою тоской.
Что бунтовать, художник кроткий? На что надеяться в мирской
степи? Хозяин той музыки не возвращает – он и сам
бредет, глухой и безъязыкий, по равнодушным небесам.
«Говорил тарапунька штепселю: дело дрянь…»
Говорил тарапунька штепселю: дело дрянь.
Отвечал ему штепсель: не ссорятся янь и инь.
У одних на дворе полынь, у других герань.
Мир прозрачный устроен просто, куда ни кинь.
Вертихвостка клязьма спит, не дыша, в заливных лугах.
Добивая булыжником карпа, пыхтит старик,
и зубастый элвис, бегущий на трех ногах,
издает с берцовой кости игрушечный львиный рык.
И полночный люд, похоронный пиджак надев,
наблюдает молча, пока за ним не следят:
превращаются школьницы в дерзких и жалких дев,
превращаются школьники в мытарей и солдат.
Мы не верили ни наветам, ни вещим снам,
а теперь уже поздно: сквозь розовый свет в окне
говорящий ангел, осклабясь, подносит нам
чашу бронзовую с прозеленью на дне.
«Лечиться желтыми кореньями, медвежьей жёлчью, понимать…»
Лечиться желтыми кореньями, медвежьей жёлчью, понимать,
что путешественник во времени не в силах ужаса унять,
когда над самодельной бездною твердит, шатаясь:
«не судьба»,
где уплывают в ночь железные и оловянные гроба.
Кого рождает дрёма разума и ледостав на поймах рек?
Кто этот странник недоказанный, недоказненный имярек,
владелец силы с чистым голосом? Пускай бездомен, пусть
продрог,
он с ней един, что Кастор с Поллуксом, что слёзы и родной
порог.
Когда в поту, когда в печали я вдруг слышу тихое «не трусь»,
когда, мудря, боюсь молчания и света божьего боюсь —
шурши ореховыми листьями, мой слабый, неказистый друг.
Мигнешь – и даже эта истина скользнет и вырвется из рук.
«Подросток жил в лимоновском раю…»
Подросток жил в лимоновском раю.
Под крики «Разговорчики в строю!»
он на вокзал, где тепловозы выли
по-вдовьи, заходил, как в божий храм,
заказывая печень и сто грамм
молдавского. В Москве стояли в силе
партийцы-земляки, и городу везло
(ах, чертов Skype, дешевка, блин! Алло!),
там строили микрорайон «Десница»,
клуб юных химиков, и монумент Чуме.
Наперсток матери. Гладь. Крестик. Макраме.
Ночь. Наволочка. Почему-то снится
тяжелый шмель на мальве, хоботок
и танковое тельце. Водосток
(из Пастернака) знай шумит, не чая
былых дождей. Что жизнь: огонь и жесть.
Что смерть: в ней, вероятно, что-то есть.
И сущий улыбался, отвечая
на плач ночной: «Спи, умник, не горюй.
Вот рифма строгая, вот шелест черных струй
грозы ночной. И это все – свобода».
«О нет, – шептал юнец, – убога, коротка.
Хочу в Америку, где реки молока
и неразбавленного мёда».
«Шелкопряд, постаревшей ольхою не узнан…»
Шелкопряд, постаревшей ольхою не узнан,
отлетевшими братьями не уличен,
заскользит вперевалку, мохнатый и грузный,
над потухшим сентябрьским ручьем.
Суетливо спешит, путешественник пылкий,
хоть дорога и недалека,
столько раз избежавший юннатской морилки,
и правилки, и даже сачка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу