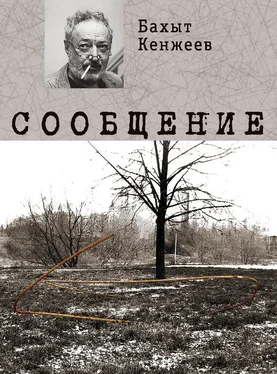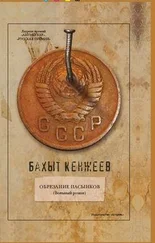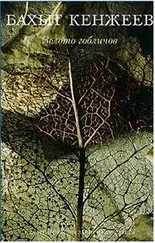в нашу дверь. В этих влажных, узких краях, где шарахаешься
на стон
колокольный, любой православный прах превратится
в глину, любым крестом
осеняя тебя из своей подводной колыбели, я знаю,
что жизнь крепка,
словно слепок с вечности – но рука стеклодува движется
не свободно,
а расчетливо, покрывая хрусталь ночной пузырящейся
волглою пеленой,
и народ – от собаки до рыбака – тоже твердо уверен, что
жизнь сладка,
как глоток кагора в холодном храме. Что за плод ты
протягиваешь мне? Гранат.
В площадной трагедии или драме все путем, словно
месяц, всходящий над
горбоносым мостиком, без затей и без грусти. Как все —
уснуть,
и взирать из заоблачных пропастей на Великий шелковый
путь.
«И я хотел бы жить в твоем раю – в полуподводном…»
И я хотел бы жить в твоем раю – в полуподводном,
облачном краю,
военнопленном, лайковом, толковом, где в стенах трещины,
освоив речь с трудом,
вдруг образуют иероглиф «дом» – ночной зверек под
крышей тростниковой.
Там поутру из пыльного окна волна подслеповатая видна,
лимон и лавр, о молодых обидах забыв, стареют, жмутся
к пятачку
дворовому. И ветер начеку. И даже смерть понятна, словно
выдох.
И я хотел бы молча на речном трамвайчике, рубиновым
вином
закапав свитер, видеть за кормою земную твердь. Сказать:
конец пути,
чтобы на карте мира обвести один кружок – в провинции
у моря.
Ах, как я жил! Темнил, шумел, любил. Ворону – помнил,
голубя – забыл,
Не высыпался. Кто там спозаранок играет в кость,
груженную свинцом,
позвякивая латунным бубенцом – в носатой маске,
в туфельках багряных?
«Не плачь – бумага не древней, чем порох…»
Не плачь – бумага не древней, чем порох,
и есть у радости ровесник – страх
в заиндевевших сумрачных соборах,
где спят прелаты в кукольных гробах.
Пусть вместо моря плещет ветер синий
по горным тропкам. Словно наяву,
следи за кронами качающихся пиний
и не молись ни голубю, ни льву.
И где-то в виннокаменной Тоскане
жизнь вдруг заговорит с тобой сама
о смысле ночи, набранном значками
орхоно-енисейского письма
«Разве музыка – мраморный щебень? Разве сердце…»
Разве музыка – мраморный щебень? Разве сердце —
приятель земли?
Как жируют в щебечущем небе то архангелы, то журавли —
и бесстенной больничной палатою проплывает ковер —
самолет,
где усталая живность крылатая суетится, взмывает, поет, —
и свобода уже отпускается заплутавшему в смертных грехах,
и опять прослезившийся кается, и ему вспоминается, как
лжестуденчество имени Ленина с несомненным куском
калача
созерцало все эти явления, бессловесные гимны шепча,
и надсадно орало «Верни его!», и шипел раскаленный металл,
и с холмов православного Киева некрещеный татарин
взлетал
Неудачник закончит заочное, чтобы, отрочество отлетав,
зазубрить свое небо непрочное и его минеральный состав.
А счастливец отбудет в Венецию, где земля не особо крепка,
но с утра даже в комнату детскую заплывают, сопя, облака.
Жизнь воздушная, кружево раннее – для того, кто раздет
и разут,
пожелтевшую бязь мироздания шелковичные черви грызут.
И меняется, право, немногое – чайка вскрикнет, Спаситель
простит.
Невесомая тварь восьминогая на сухой паутинке висит.
Что там после экзамена устного? Не страшись. Непременно
скажи,
чтобы тело художника грузного завернули в его чертежи.
Крепостной остывающих мест
(2006—2008)
«Зачем придумывать – до смерти, верно, мне…»
Зачем придумывать – до смерти, верно, мне
блуждать в прореженных надеждах.
Зря я подозревал, что истина в вине:
нет, жестче, поразительнее прежних
уроки музыки к исходу Рождества.
Смотри, в истоме беспечальной
притих кастальский ключ, и караван волхва
уснул под лермонтовской пальмой.
Так прорастай, январь, пронзительной лозой,
усердием жреческим, пустым орехом грецким,
пусть горло нищего нетрезвою слезой
сочится в скверике замоскворецком,
качайся, щелкай, детский метроном,
подыгрывая скрипочке цыганской,
чтобы мерещился за облачным окном
цианистый прилив венецианский.
«Ах, как холодно в мире. Такой жестяной снегопад…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу