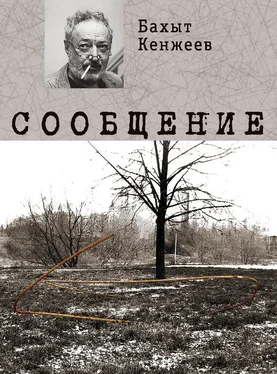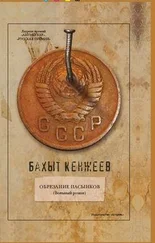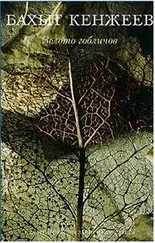«То ли женой неверною, то ли ослепшей лошадью вороной…»
То ли женой неверною, то ли ослепшей лошадью вороной
вкрадчиво, словно декабрьский закат над Петроградскою
стороной,
надвигается высокомерная эра, где пурпур не пристает
к холсту,
где в булыжном гробу, тяжесть небесной сферы
на формулы раскроя,
скалит зубы девственник Ньютон с апельсином грубым
во рту —
яблоко ему не по чину, ведь он – не Ева, и тем более —
не змея.
Путаясь в именах, хромая, прошу прощения у тебя,
выпуклый мой Кранах.
Уж кому, а тебе не выпало разливать самогон крестьянский
на похоронах
просвещения, – а тупому мне, погляди, за отсутствующею
радугой
открывается в неунывающих облаках, расстилающихся
над Ладогой,
золотая трещина, и чудятся преданные конвенту, природе,
братству, семье
мясники и галантерейщики с чучелом обезглавленного
Лавуазье,
и тогда я пытаюсь залить в клепсидру воды, – чтобы,
дыша, текла
вниз, равномерно смачивая поверхность пускай
не хрусталя – стекла,
но какой-то нелепый, плешивый леший добавляет в нее
сульфат
кальция или магния, то есть накипь, чтобы мутнела,
и невпопад
все минувшее (как ты сейчас? успокойся, ау! погоди!
не молчи! алло!)
перекипело, в осадок выпало, просияло, всхлипнуло —
и прошло.
«Если эра надменных слов типа «призвание» и «эпоха…»
Если эра надменных слов типа «призвание» и «эпоха»
и существовала, от дурного глаза ее, вероятно, легко укроют
устаревшие строчки, обтрепанная открытка, плохо
справляющийся с перспективой выцветший поляроид.
Устарел ли я сам? Черт его знает, но худосочным дзеном
не прокормишься, жизнь в лесах (сентябрьская паутинка,
заячий крик)
исчерпала себя. Возвышая голос, твердя о сумрачном,
драгоценном
и безымянном, слышу в ответ обескураженное молчание.
Блик
осеннего солнца на Библии, переведенной во времена короля
Якова – и по-прежнему пахнет опятами индевеющая земля
молодых любовников, погрустневших детей, малиновой
карамели
и моих друзей-рифмоплетов, тех, что еще вчера, или на
той неделе
в сердце уязвлены, поражены в правах, веселясь, лакали
недорогой алкоголь по арбатским дворовым кущам,
постигая на костоломном опыте, велика ли
разница между преданным и предающим,
чтобы, лихой балалайке в такт, на земле ничейной
скалилась на закат несытая городская крыса,
перед тем, как со скоростью света – наперекор Эйнштейну —
понестись к созвездию Диониса
«Еще не почернел сухой узор…»
Еще не почернел сухой узор
кленовых листьев – тонкий, дальнозоркий —
покуда сквозь суглинок и подзол
червь земляной извилистые норки
прокладывает, слепой гермафродит,
по-своему, должно быть, восхваляя
творца – лесная почва не родит
ни ландыша, ни гнева Менелая,
который – помнишь? – ивовой корой
лечился, в тишине смотрел на пламя
костра, и вспоминал грехи свои, герой,
слоняясь Елисейскими полями.
А дальше – кто-то сдавленно рыдает,
твердя в подушку – умереть, уснуть,
сойти с ума, сон разума рождает
нетопырей распластанных, и чуть
не археоптериксов. В объятья октябрю,
не помнящему зла и вдовьих притираний,
неохотно падая – чьим пламенем горю,
чьи сны смотрю? Есть музыка на грани
отчаянья – неотвязно по пятам
бредет, горя восторгом полупьяным,
и молится таинственным властям,
распоряжающимся кистями и органом.
«Проснусь, неисправимый грешник, не чая ада или рая…»
Проснусь, неисправимый грешник, не чая ада или рая,
и, холостяцкий свой скворешник унылым взглядом озирая,
подумаю, что снег, идущий, подобно нищему глухому,
привычно жалкий, но поющий о Рождестве, о тяге к дому
светящемуся, все же ближе не к подозрениям, а к надежде,
допустим, на коньки и лыжи, на детство, что родилось прежде
Эдема и Аида. Если мудрец довольствуется малым,
повеселимся честь по чести над постсоветским сериалом,
когда увидимся, когда не расстанемся, когда иронию
оставим, и опять по пьяни заговорим про постороннее,
и пожалеем древних греков, что в простодушии решили
не видеть смысла в человеках без ареопага на вершине
доледникового Олимпа, где боги ссорятся, пируя, —
закурим, и поговорим по-английски, чтобы русский всуе
не употреблять, ведь этот жадный язык – разлука, горе,
морок —
не терпит музыки всеядной и оловянных оговорок —
но, выдохшись, опять впадем в него, заснем в обнимку,
не рискуя
ничем, под куполом огромного и неизбежного. Такую
ночь не подделаешь, ночь синяя, обученная на ошибках
огней неотвратимых, с инеем на ветках лип, на окнах зыбких.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу