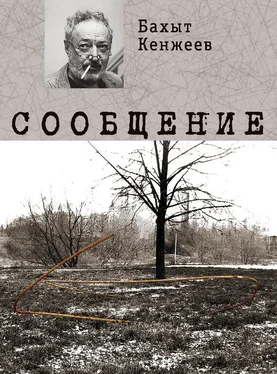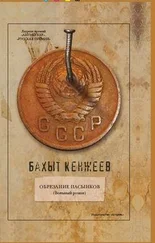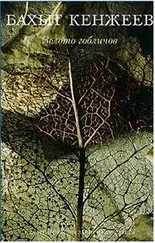«Тонкостенная – ах, не задень ее!…»
Тонкостенная – ах, не задень ее! —
тонкогубая – плачет, не спит,
а за ней – полоса отчуждения,
да вагонная песня навзрыд,
а еще – подросткового сахара
грязный кубик в кармане плаща,
а еще – до конца не распахана,
но без страха, не трепеща,
поглощает лунные выхлопы
над Барвихой и Сетунью, над
отвыкающим – вздрогнуло, всхлипнуло —
Подмосковьем. Сойдешь наугад
на перроне пустынном, простуженном,
то ли снег на дворе, то ли дождь,
то ли беглым быть, то ли суженым,
то ли встречного поезда ждешь.
Кто там вскрикнул? сорока ли? эхо ли
над пакгаузами говорит
с черной церковью? Вот и проехали.
Только снег голубеет, горит…
«Одноглазый безумец-сосед, обгоревший в танке…»
Одноглазый безумец-сосед, обгоревший в танке,
невысокие пальмы Абхазии с дядюшкиного слайда.
Узкая рыба в масле, в желтой консервной банке,
называется сайра, а мороженая, в пакете, – сайда.
Топает босиком второклассник на кухню, чтобы напиться
из-под крана, тянется к раковине – квадратной, ржавой.
И ломается карандаш, не успев ступиться,
и летает Гагарин над гордой своей державой.
Он (ребенок) блаженствует, он вчера в подарок —
и не к дню рождения, а просто так, до срока, —
получил от друга пакетик почтовых марок
из загробного Гибралтара, Турции и Марокко.
В коридоре темень, однако луна, голубая роза,
смотрит в широкие окна кухни, сквозь узоры чистого
полупрозрачного инея. Это ли область прозы,
милая? Будь я обиженный, будь неистовый
богоборец, я бы – но озябший мальчик на ощупь
по холодному полу
топает в комнату, где дремлют родители и сестрица,
ватным укрывается одеялом. В восемь утра просыпаться
в школу,
вспоминать луну, собирать портфель – но ему не спится,
словно взрослому в будущем, что размышляет
о необъяснимых
и неуютных вещах, и выходит померзнуть да покурить
у подъезда,
а возвращаясь, часами глядит на выцветший, ломкий снимок,
скажем, молодоженов на фоне Лобного места.
Впрочем, взрослому хорошо – он никогда не бывает печален.
Он никогда не бывает болен. Он на Новый год уезжает
в Таллин
или в Питер. Он пьет из стопки горькую воду и говорит:
«Отчалим».
Он в кладовке на черной машинке пишущей часто стучит
ночами,
и на спящего сына смотрит, словно тот евнух,
непревзойденный оракул,
что умел бесплатно, играючи предвещать события
и поступки,
только прятал взгляд от тирана, только украдкой плакал
над лиловыми внутренностями голубки.
«Напрасно рок тебе не мил…»
Напрасно рок тебе не мил —
есть света признаки повсюду,
и иногда смиренен мир,
как Пригов, моющий посуду.
Напрасно я тебе не нравлюсь —
я подошьюсь еще, исправлюсь,
я подарю тебе сирень,
а может, ландыши какие,
и выйду в кепке набекрень
гулять к гостинице «Россия»,
мне все равно, что там пурга,
на мавзолей летят снега,
турист саудовский затуркан.
О площадь Красная! Люблю
твои концерты по рублю,
где урка пляшет с демиургом,
где обнимаются под стеной
зубчатой, по соседству с горцем
горийским, северный герой
с жестоковыйным царедворцем.
То скрипка взвизгнет, то тамтам
ударит. Бедный Мандельштам,
зачем считал он землю плоской?
Люблю твой двадцать первый век —
хрипишь, не поднимая век,
как Вий из сказки малоросской.
Проход – открыт, проезд – закрыт.
Все шито-крыто, труп деспота
везут сквозь Спасские ворота —
но в ранних сумерках горит
открытое, иное око —
и кто-то все за нас решил
под бередящий сердце рокот
снегоуборочных машин.
«Славный рынок, богатый, как все говорят…»
Славный рынок, богатый, как все говорят.
рыбный ряд, овощной, да асфальтовый ряд —
и брюхатый бокал, и стакан расписной,
и шевелится слизень на шляпке грибной,
а скатёрки желты, и оливки черны,
и старьевщик поет предвоенные сны,
наклоняясь над миром, как гаснущий день —
и растет на земле моя серая тень.
Так растет осознавший свою немоту —
он родился с серебряной ложкой во рту,
он родился в сорочке, он музыку вброд
перейдет, и поэтому вряд ли умрет —
перебродит, подобно ночному вину,
погребенному в почве льняному зерну,
и взглянув в небеса светлым, жестким ростком,
замычит, как теленок перед мясником
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу