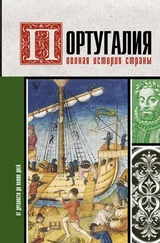«Буддисты собираются. Монголы.
И строят на ветвях. Невидимые школы.
И учат пчёл. И ящериц, и птиц —
воздушных и прозрачных
продавщиц…»
Китай невидимый! среди твоих дерев
я промелькну больною тенью,
внимая ужасам литературных дев
и птиц летающему пенью
(подымет Бог из тёплого ручья
одну из рыб, по имени —
«ничья»).
Никто желтеющий, на фоне малых сих
венок веселия слагаю,
и пеплом ангела посеребрённый стих
в губах, как лезвие, сжимаю:
бесснежные жемчужины во рту
и пепел на постели поутру…
Мне больше нечего, как мёртвому, сказать
ни человеку, ни машине,
напрасно мы в Китай, как мёртвые, спешили
и собираемся опять.
Я тварь дрожащая!
мне страшно умереть!
Я лучше стану я
животных посмотреть!
На тайном поприще невидимых зверей
замечу кошку и лисицу:
привет, сестра! а ты, сестрица,
скорей хвостом меня согрей!
верни мне имени «андрей», подруга,
кто-нибудь, лисица!
Позволь мне оплакать стигийский вокзал,
китайская муза!
немая прохлада,
как смерть, очевидна:
я дар промотал
и лодке мой голос подобен —
не надо
ни лада высокого,
ни торжества
зелёного света,
сиреневой тени…
Ты помнишь, лисица,
как тихо кричал
на барского лёву,
как пал на колени
мой грузный товарищ?
ты помнишь?
едва
ли
помнишь,
какое крутилось кино,
как долго спешили в то хмурое утро,
полночи отдав логомахии,
но —
в дорогу меня
позвала
Кама-сутра.
И вот, недобитый ромео,
сажусь
на первый троллейбус,
к патетике горя
амурного
склонен,
сквозь слёзы
в окно
смотрю и не вижу —
от моря до моря,
как дым,
шевелиґтся
Летейский Союз —
но слышу,
чтó кычет на красной латыни
крысиной музыґке
подверженный люд,
подмётки направив к иной палестине,
где каждый себе и генсек, и верблюд
(славянский базар заплутавших в пустыне):
Пускай Чжуан-цзы толковать норовишь,
не будет ни трости тебе,
ни платана;
сморгнёшь, как соринку, себя,
заскользишь
в те кущи, где ангелы
пьют из фонтана;
там, в складках одежд
стройнокрылых существ,
что воском и ветром пропахли,
земную
пыль
высмотришь,
муча
свирель расписную,
лабая жмура государственных мест,
оставленных несколько ниже…
Так значит,
немногого хочешь от музы чужой?
оплакать позволь,
говоришь,
но не плачет?
И плакать не станет,
пока
ты живой
и дышишь
изнанкою сна ледяного,
и рюмочку вертишь,
как слово —
одной
рукой,
а другою,
как рюмочку —
слово!».
У меня была
подруга
в виде:
и немножко молока,
и хрустинка хлеба,
Хлебникова облака —
из кого?
– из неба!!
Плывут по морю облака,
да нет, ПО НЕБУ —
облака!
плывут ПО МОРЮ —
лодки,
собаки и селёдки!
Да нет —
собаки НЕ ПЛЫВУТ,
они —
ЛЕТАЮТ там и тут,
а кошки и лисицы —
ПРИСНИТЬСЯ мастерицы!
Свидетель кошек и лисиц,
на день
ровесниц
и ресниц,
китайский
как ребёнок —
забормочу
спросонок:
«Tod. Вокялоп
Вот Поляков
Андрей
возник
на всех руинах русских книг,
как счастливо спросонок
залопотал
ребёнок:
Кошка, ты кошка,
живёшь понарошку,
а, выйдя на речку,
мурлычь про овечку,
про чёрную
(прочерк)
овечку —
с глазами
невесты-совы.
Кто таков —
Поляков?
и зачем
Полякову —
собака?
Он совсем не готов
восклицать:
«Укуси!»
и «Однако!».
Не собак он любить,
а крылатых котов —
Гражданин двухлетний Миша наблюдаем
в небесах, ходит грудь толкает, дышит,
повторяя: ша-ха-чах! Что ты ходишь
в виде мыши, растворяясь в небесах, в сон
троллейбус приводя мимо парка и дождя,
где рифмующая птица о Монголии поёт и
на грудь мою садится насекомый самолёт, и
никто не спросит Мишу, чем закончится полёт,
и
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
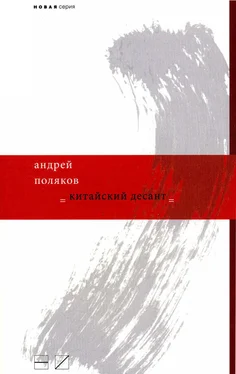





![Роберт Хайнлайн - Звездный десант [= Звездные рейнджеры; Звездная пехота; Космический десант; Солдаты космоса]](/books/333390/robert-hajnlajn-zvezdnyj-desant-zvezdnye-rejndzh-thumb.webp)