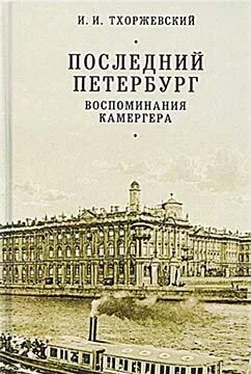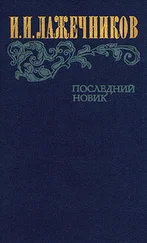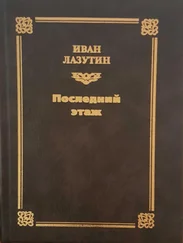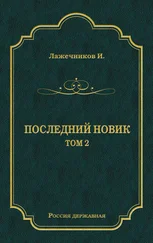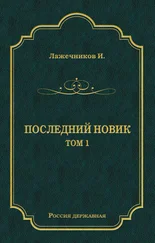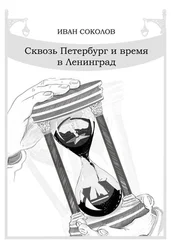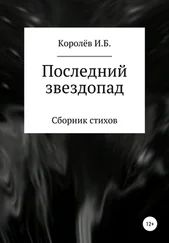Огромные численные жертвы были понесены русской армией. Слишком долгими и напряженными для народа оказались его усилия, при неясном сознании национальных целей войны. В солдатских массах, особенно в тылу, появилось резкое утомление войной. Это утомление в народе и полное политическое ослепление наверху, где произошел окончательный разрыв, образовали два враждебных лагеря, одинаково беспомощных, одинаково заблуждавшихся и оторванных от народа: старая власть и революционная интеллигенция, даже правое ее крыло — Государственная Дума. Их разрыв снял все шлюзы для стихийного напора снизу. Оттуда хлынула, ворвалась неорганизованная, бунтующая солдатская стихия. Она скоро отдала всю власть, через голову Временного правительства, в грубые лапы уже настоящих, закоренелых, не минутных только, а вечных, неисправимых скифов — большевиков.
По кличу «грабьте награбленное» стихия стала истреблять все, что могла. Так иногда озлившиеся на своих, подлинных или мнимых, трутней, рабочие пчелы бросаются их истреблять — и сами, всем своим множеством, наваливаются и проедают весь накопленный раньше долгими усилиями мед: улей опустошен и гибнет.
Запрет с чужой собственности был снят. Помещичьи усадьбы разгромлены, накопленные в них сельскохозяйственные богатства растасканы в клочья. Затем пошло поравнение между крестьянами: отнятие у соседей побогаче скота, инвентаря, запасов, посевов, а в случае сопротивления — жизни.
Настало время черного передела, но передел этот лишь в слабой степени коснулся земель. Иногда, на короткое время, захватывались чужие засеянные поля, но делили и уничтожали, главным образом, готовое сельскохозяйственное добро. Чтобы поделить, размежевать, а тем более засеять вновь землю, нужна была затрата денег, труда и времени. Лишь позднее и медленнее пошло такое освоение земель, главным образом — помещичьих. Поля же, временно отхваченные у богатых крестьян сельской беднотой, часто вовсе не закреплялись за новыми владельцами — ни с помощью землемеров, ни даже просто долгим хозяйничаньем… Понятно, что у богатых крестьян сразу была отнята часть засеянных полей и что они сами скоро перестали сеять что-либо для продажи, а ограничивались тем, что им нужно было для собственного пропитания. Средняя площадь крестьянского посева быстро выравнивалась и опускалась вниз…
Революционный, пролетарский город, выдав с головой деревенской бедноте «помещика» и «кулака», забыл или не знал, что он скоро станет сам «на ножи» с русской деревней.
Русская статистика давно установила и подтвердила последней продовольственной анкетой 1916 года, что на город работал примерно в 30 % помещик и в 70 % крупный хозяин-мужик, имевший не менее 6 десятин посева, т. е. 15 и более десятин земли. Мелкие крестьянские хозяйства с трудом прокармливали сами себя. «Царство деревенской бедноты» означало: «Город будет без хлеба»… И скоро прозвучали знаменитые — заслуженно знаменитые! — насмешливые крестьянские слова, так ошеломившие, говорят, Ленина: «Как же, мол, так? Земля нам, а хлеб вам. Луга нам, а сено вам. Леса нам, а дрова вам» и т. д.
Земля перестала быть интересной. Стал интересным хлеб, а хлеба становилось все меньше. За ним приходили в деревню красные. За ним приходили белые, неся свою земельную политику, но реальных ценностей в обмен на хлеб и они не давали. Я не буду, не хочу останавливаться на эволюции земельных взглядов белых, закончившейся изданием рассчитанного на крестьян врангелевского земельного закона. Не буду потому, что, по моему глубокому убеждению, все это не входит в главные линии и общие перспективы нашей земельной истории, все это — и законы, и посулы, и ошибки — оставалось где-то в стороне, сбоку, и в период еще неизжитого народного угара, гражданской войны, только увеличивало общую революционную сумятицу. Существенно было одно: разгромленная революцией городская промышленность не давала деревне в обмен на хлеб каких-нибудь товаров. А революционные деньги, и красные и белые, быстро обращались в бумажный хлам. Деревня не оправдала надежд ни красных, ни белых; она пряталась, отсиживалась и, начиная голодать, хозяйничала только на себя.
Пошли карательные экспедиции в деревню за хлебом. Пошли крестьянские восстания, потопленные в крови. Утопающий, говорим мы, хватается за соломинку. Японцы говорят гораздо сильнее: утопающий хватается за змею . Так погибающая деревня схватилась за ядовитую союзницу: убыль своих посевов. Все излишки у нее отбирались — не надо было иметь излишков!
Читать дальше