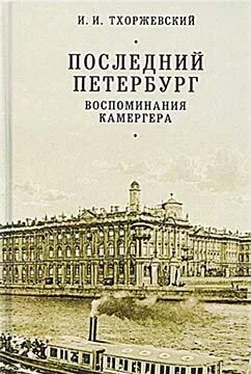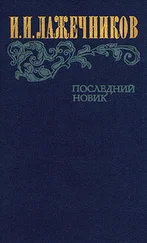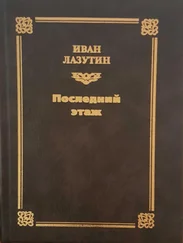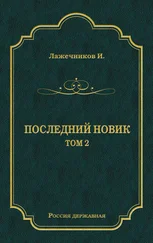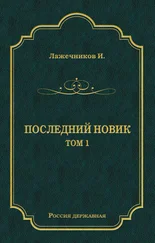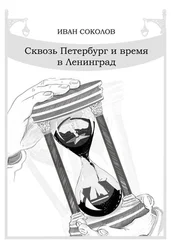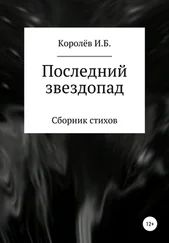В книге Гурко «Царь и Царица» рассказана, без всякого укора, с полным достоинством придворного и верноподданного, жизнь и силы которого принадлежат трону, но честь и суждения независимы, — правда о чистом, но жутком ослеплении наверху.
А вот какие слова были произнесены в 1916 году, в чинном хорошем клубе, за поздним ужином немногих приятелей — там, где ничьи враждебные уши не слышали, но зато и дружеские уши себе не верили! Общая мрачность сменилась общим отрезвлением и смятением:
Все, что видишь сейчас, — не к добру,
Это в шахматах часто бывает.
Королева ведет всю игру.
А король — просто мат получает.
Всего трагического ужаса этих слов мы даже не подозревали.
Чувствовалось, что уже сошли с рельс. Но еще не верилось, что летим в бездну.
1932
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ЗЕМЛЯ И СКИФЫ {33}
Фрагмент статьи
Все мы думаем о России — кто сердцем еще не умер. Многие жаждут скорее туда вернуться. Все ищут объединения и здесь, между собою, — а главное, с родиной, с ее настроениями… Что «там, во глубине России»?
Но ни объединения, ни возврата домой нет, пока мы не поставим перед собой честно, во всей широте, самый темный, самый жгучий, самый простой и, вместе с тем, самый коварный вопрос русской жизни: земельный. Как быть с землей? И что на самом деле теперь «там» делается?
Надо освежать свои мысли и свои знания в этой области. Надо припадать ухом к земле — и слушать. Нужна не только интуиция (хотя значение интуиции огромно и недооценено в политике!). Нужно следить за фактами и цифрами, определять главные линии, естественный уклон идущих событий к будущим, все время сохраняя перед глазами общую историческую перспективу.
Еще недавно выдвигать земельный вопрос означало бы: всех расколоть. Но теперь наглядное обучение земельной премудрости со всею «скифскою» жестокостью проделано над Россией. Теперь и крестьянские, и городские, и наши эмигрантские мозги проясняются. И теперь, я думаю, полезно воскресить на один час, в нашей памяти, главные (только главные!) линии и общие (самые общие!) перспективы русского земельного вопроса.
«Власть земли» и «власть тьмы»: эти начала спокон веков стихийно тяготели над крестьянской Русью.
В политике, именем крестьянства и за его счет, орудовали чуждые ему — справа и слева — силы. Мужик если не одобрял их, то все же предоставлял им орудовать. Тяжелый на подъем, заброшенный экономически и культурно, он становился из равнодушного разъяренным только тогда, когда задевались его кровные земельные интересы. Тут он вечно и ревниво жаждал быть полным хозяином. Вечно, часто преувеличенно (порой до нелепости!) чувствовал себя утесненным. Эта стихийная тяга к земле, глухие земельные волнения проникают всю русскую историю, и только исторически можно понять многие мужицкие обиды и фантазии «о земле».
Не пойдем в глубь земельного прошлого. Остановимся на двух ближайших исторических гранях:
1) сейчас же после освобождения крестьян (60 лет назад) и 2) непосредственно перед последней войной (10 лет назад).
За этот полувековой пробег история дала уже по земельному вопросу свои отчетливые, решающие указания.
Вся площадь европейской России, пригодная для земледелия, — 197 миллионов десятин. После освобождения крестьян площадь эта распределялась так: 16 миллионов десятин — у крестьян, 5 миллионов десятин — у казны, уделов и монастырей и 76 миллионов десятин у частных владельцев.
Последующие полвека показали, что для примитивного крестьянского труда земли, доставшейся ему, оказывалось слишком мало. Для слабого помещичьего капитала земли, оставшейся за ним, — раз отнята даровая рабочая сила — чересчур много. И в последующие полвека земля неудержимо переходила из помещичьего в крестьянский земельный фонд.
В надел крестьянам отошла при освобождении почти вся земля, которой фактически они пользовались перед освобождением. «Отрезки», сокращения составили незначительный процент (4–5). Правда, что эти отрезки остались надолго занозой в памяти у крестьян и что государственные крестьяне получили больше земли. Но как-никак в среднем крестьянский надел при освобождении составлял на двор, на хозяйство (тогда насчитывалось всего 8–9 миллионов дворов) по 14–15 десятин. Прошло полвека, число крестьянских дворов почти удвоилось — и всё еще надельные земли использовались очень слабо: лишь малая часть земли ежегодно засевалась, и низкими были крестьянские урожаи.
Читать дальше