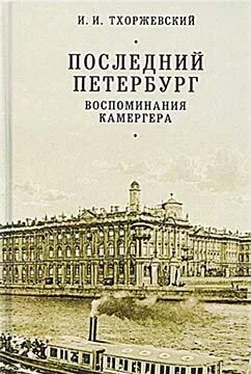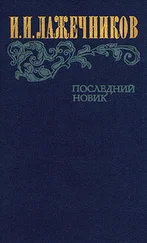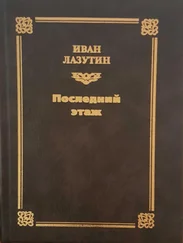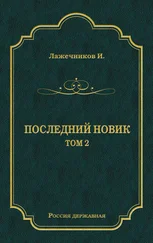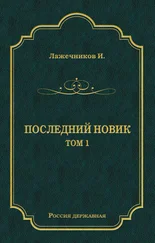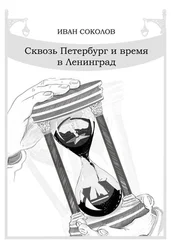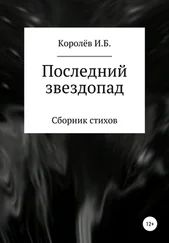Да, оно своим богатством еще могло дразнить крестьян соседей. Да, жива была еще легенда о безграничности помещичьего землевладения и мечта черного передела. Но экономическая реальность была за это, начинавшее расцветать, крупное и среднее хозяйство.
Здесь я должен сделать важную оговорку.
Процесс земельного расслоения к началу войны не был еще закончен. Еще значительная часть помещичьих земель ходила попросту по мужицким рукам в аренде и была, так сказать, предопределена к продаже. Переход этой земли в крестьянские руки несомненно запоздал. В начале войны своего собственного посева у помещиков было около 8 миллионов десятин, а арендного мужицкого около 12 миллионов десятин. Следовательно, из остававшегося земельного фонда крупных имений еще должен был произойти дальнейший отбор жизненно нужных для России крупных хозяйств. А для этого, как потом оказалось, в запасе не было уже времени…
В начале XX века явственно обозначились два важных явления: во-первых, крестьянский земельный хаос стал понемногу распутываться, из него начали выделяться отдельные устойчивые владения; во-вторых, пошел быстрее качественный подъем крестьянского хозяйства.
В несколько лет сбыт сельскохозяйственных машин увеличился в России в 5,5 раза, сбыт минерального удобрения — почти в 7 раз. Развилось травосеяние, пошли в ход промышленные культуры, крестьянское хозяйство стало разнообразиться, огромный скачок вперед сделало разведение мелкого скота и птицы, вывоз яиц и масла. На смену стеснительных связей общины явились и стали крепнуть свободная крестьянская кооперация, хозяйственные союзы мелких собственников (перед войной — 33 тысячи союзов, 11 миллионов членов).
Параллельно с этим шел еще более глубокий процесс обеспечения прав каждого отдельного хозяина на делаемые затраты и улучшения, шло оздоровление самых корней сельской культуры, создание мелкой крестьянской собственности, вывод отдельных хозяйств из первобытной чересполосной путаницы, из-под угрозы и обид передела. Начало XX века ознаменовано сильнейшей тягой к мелкой крестьянской собственности. В десять лет, перед войной, вышло из общины 3 миллиона хозяйств (20 % общего числа), с площадью земель в 26 миллионов десятин; из них 1,5 миллиона дворов даже свели свои владения в округленные участки (отруба и хутора) на площади в 16 миллионов десятин. Все это было поставлено — пускай с рядом недочетов — на рельсы правильного хозяйства. Правительство усердно, хотя и с опозданием, помогало. Но само движение было не искусственным, а народным. Судите хотя бы по тому, что к началу войны оставалось неудовлетворенных ходатайств о выделе от 5 миллионов 700 тысяч крестьянских дворов: не хватало рук, землемеров. И после революции то же движение вспыхнуло с новой силой.
Пути естественного развития сельской России, таким образом, намечались. Преобладающий тип — мелкая крестьянская собственность, объединяющаяся в свободные сельскохозяйственные союзы. Вспомогательный тип — крепнущее на сокращенной площади крупное и среднее промышленно-капиталистическое хозяйство, сильное техникой, культурой, работающее на города и на вывоз и увлекающее за собой к сельскохозяйственным улучшениям соседнее крестьянство.
Быстро в этих условиях начала богатеть Россия в начале XX века. В несколько лет народный доход от сельского хозяйства удвоился: с 3 до 6 миллиардов золотых рублей в год.
И это было только еще начало. Доходность крестьянского и даже помещичьего хозяйства все еще по сравнению с западноевропейскою была крайне низкой. Наше сельское хозяйство только начинало еще расцветать. То был детский, но уже богатырский рост. Перспективы впереди были безбрежными. В красноречивых цифрах нашего сельскохозяйственного успеха словно звучало далекое, смутное эхо глубоких голосов земли , находившей нужные ей умелые руки.
Народ начинал богатеть. Острота земельного вопроса слабела.
Пришла война. Пусть на Западе ее называют Великой! В нас шевелятся совсем другие эпитеты… Война прервала это естественное развитие с его здоровыми политическими тенденциями.
Война оторвала крестьян-работников от земли, уменьшила сельскохозяйственную производительность, увеличила потребление, а главное, сосредоточила народную мысль на интересах сегодняшнего дня и на вопросах потребления, обесценила человеческую жизнь и ее культурные блага и ценности, сделала привычным насилие. Под трескотнею пулеметов пробуждались живущие в каждом из нас, дремлющие в нашей русской крови скифы . Скифы, которых воспел нежный Блок и о которых далеко не изнеженный старик Геродот писал много веков тому назад: «Скифы не поддаются никакой культуре».
Читать дальше