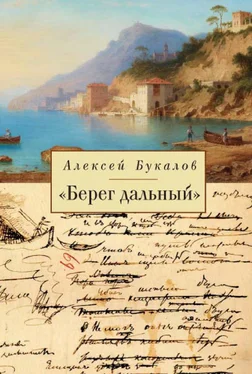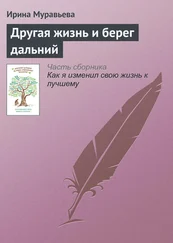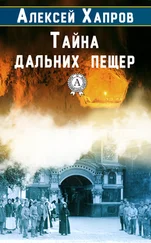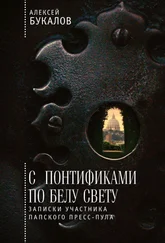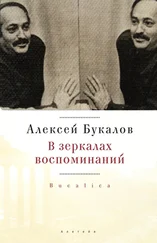– Батюшка, Гаврила Афанасьевич, – перервала старушка, – слыхали мы сказку про Бову-королевича да Еруслана Лазаревича. Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание» (VIII, 25).
Пушкин на протяжении всей жизни много раз обращался к сказке о Бове-королевиче [429]. Первая попытка написать поэму «Бова» относится еще к лицейскому времени (1814 год). В 1822 году Пушкин записывает три плана сказочной поэмы про Бову, перечень действующих лиц и наброски начала поэмы, где на пир к царю Зензевею, под «народны клики»
Съезжаются могучие цари,
Царевичи, князья, богатыри… (V, 156)
Последнее обращение Пушкина к сюжету о Бове датируется 1834 годом: на листке с планом «Капитанской дочки» набросан и новый план сказки о Бове, опять перечень ее главных героев и две строки:
Красным девицам в забаву,
Добрым молодцам на славу. (XVII, 32)
Пожалуй, такой же устойчивый интерес – протяженностью в жизнь – наблюдается у Пушкина разве что в отношении истории его черного прадеда.
Пушкин, конечно, не усматривал прямых ассоциаций в сказочных судьбах Бовы, «принца крови, сына царского», и Ибрагима, «сына арапского салтана». Только чудесная пестрота судьбы, взлеты ее и падения объединяют двух принцев. Есть и еще один нюанс: обе истории – заморские, иноземные, рассказанные на русский лад. Древняя итальянская романтическая поэма «Буово д’Антона» свободно вошла в мир нашей народной сказки, срослась с русским фольклором. Рыцарская повесть превратилась в подлинно «народную книгу» (термин В.Я. Проппа) [430].
Так и «восточный князь» – арап Ибрагим, в знойной Африке рожденный, дважды похищенный, царем крещенный, при дворах трех государей служивший, в плену побывавший и в «подземном сражении» раненный, обрусел в северном Петербурге и явился женихом к юной русской красавице боярышне. Чем не волшебная сказка?
Пушкин не мог не увлечься этой легендой, прекрасной и страшной, как с юных лет увлекся он сказкой о Бове-королевиче. И мы можем с полным правом отнести к самому Пушкину его слова из стихотворного обращения к Гнедичу (1832):
То Рим его зовет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссиана,
И с дивной легкостью меж тем летает он
Вослед Бовы иль Еруслана. (III, 286)
Вымысел – не есть обман,
Замысел – еще не точка.
Дайте дописать роман,
До последнего листочка…
Б.Окуджава. «Я пишу исторический роман»
Неоконченный исторический роман Пушкина стал в нашей литературе одним из первых произведений, выразивших связь «личной жизни («история сердца») с жизнью исторической, народной» (Б. Эйхенбаум). Немаловажное значение имеет вопрос о соотношении «вымысла» и «истории» в романе о царском арапе (имея в виду пушкинское определение жанра как «исторической эпохи, развитой в вымышленном повествовании»).
Мы уже говорили о глубоком знакомстве Пушкина с документами, анекдотами и описаниями петровского времени. Однако было бы наивным рассматривать роман как своего рода наглядное пособие по изучению исторических реалий. Пушкин организовывал материал в соответствии с собственными творческими потребностями, внося нужные ему коррективы в ход и последовательность описываемых событий. Приведем несколько примеров «вольного» обращения автора с фактами. Не для того, конечно, чтобы «обвинить» Пушкина в неточности или неосведомленности, а чтобы выяснить творческий механизм такого рода «несоответствии».
Главный «сдвиг» очевиден – это изменение времени женитьбы арапа (настоящий Ганнибал женился уже после смерти Петра I) и социальной принадлежности его невесты [431](возвышение ее, важное с точки зрения жизненных планов Ибрагима: «Свадьба с молодою Ржевскою присоединит меня к гордому русскому дворянству и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве», VII, 1, 27). Эти «поправки» были совершенно необходимы автору для развития всей сюжетной линии романа.
Сознательную «вольность» допускает Пушкин и при перечислении сподвижников Петра: «Ибрагим видал Петра в Сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные вопросы законодательства, в Адмиралтейской коллегии утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гавр<���иилом> Бужинским и Копиевичем [432], в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов, или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого» (VIII, 13). Среди государственных деятелей петровского времени в романе названы также «великолепный князь Меншиков», «русский Фауст» Брюс, генерал-полицмейстер Девиер, а также Рагузинский, Шереметев, Головин (VIII, 11, 13). Известно, что И.Ф. Копиевич, переводчик и организатор русской типографии в Амстердаме, умер в 1706 (или 1708) году, тогда как Ганнибал вернулся в Россию только в 1723-м! Ученый «монах», епископ Новгородский Феофан Прокопович (между прочим, автор «Истории Петра Великого»), хоть и дожил до 1736 года, но в Петербург приехал только в 1716-м и, следовательно, никак не мог встречаться там с Копиевичем. Граф Б.П.Шереметев умер в 1719 году, а князь Я.Ф. Долгорукий (Долгоруков) – в следующем, 1720-м. Исторические документы сохранили свидетельства резкости и прямоты высказываний кн. Долгорукого. Пушкин многократно упоминает имя князя в «Истории Петра», а его «спору» с царем в сенате посвятил одну из новелл из «Table-talk» (где опять полемизирует с И.И. Голиковым) [433].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу