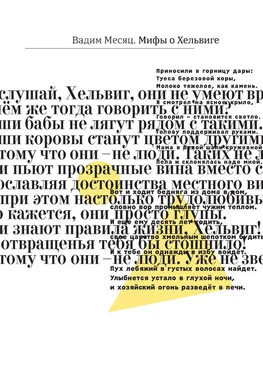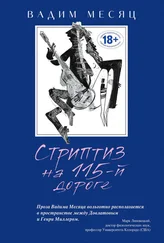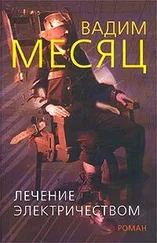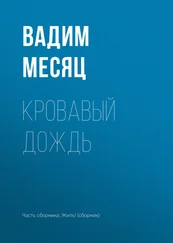Я с давних пор разлюбил гостей, с которыми незнаком.
Он от жены не принес вестей, лакомится молоком.
Я поутру нахожу цветы, подброшенные на порог.
Чую – не миновать беды. Из них я сплету венок.
Землю копну и наткнусь на клад, горсть золотых монет.
Счастью дурному я был бы рад, только тебя здесь нет.
Я от удачи раскис, устал… Мне больше не до чудес,
если все то, что Господь мне дал, видит лишь темный лес.
Спрячу в тяжелом я сундуке каждый лесной трофей.
Вспомню о славном моем сынке, о доченьке о своей.
Вы для меня плывете вдвоем в лодочке лубяной
майским, цветущим бескрайним днем в дальней стране родной.
И в этой кукушечьей тишине, на троне сырого пня
сказка рассказывается не мне и вовсе не про меня.
Письма лисичьи, подарки фей. Шорох ночных шутих…
Если оставишь своих детей, не обретешь чужих.
Сестра, ты безумна, если грустишь.
Ликуй! Бегай босая по кругу!
Дом твой горит на горе Ульхун,
и дым вплетается в облака.
Он полыхает, как царский трон,
как шелкопряда засохший кокон.
Как легко вместилище пыли
испустило свой тяжкий дух!
На кувшин козьего молока
мы бы могли его променять;
на бубен, на свадебное платье,
что тебе никогда не носить.
Боги спускаются вниз по склонам
из своих разоренных гнезд.
В желтых гречишных полях
на ходулях бредут цари.
Им не привыкать к потерям,
именно им они обучили нас:
беспризорники выставлены за дверь,
не надеясь на доброту.
Твои дети на яблонях сидят,
бездумно играя в птиц.
Твой дом полыхает на небесах.
И вот уже горят небеса.
Вода замыкает свои круги.
Становится выше гора Ульхун.
Я слышал вчера перезвон колес,
Как будто прошло уже двести лет.
Как будто, дожившие до зимы,
мы были счастливы только здесь.
Позволь мне еще постоять в дверях,
дай не подышать мне, пока ты спишь.
Тебя не узнает твоя сестра,
годами глядя тебе в лицо.
Зачем собирать камыши со дна,
бежать за золотым клубком?
Твой сон выпадает из лап ежа
на скользкий,
прибитый морозом мох,
где я проходил по тропинке вниз
единственный раз, единственный раз.
И я не знаю, о чем молчал
твой черный от чернослива рот,
Я забрал твою молодость, словно вздох,
чтоб ты и не вспомнила, был ли гость.
Глянешь – и ясно, когда предаст.
Поставлю на десять лет.
Мертвой земли черноземный пласт,
словно стекло на свет.
В мертвой земле прорастет зерно.
Горечь сожми в горсти.
Рано ли, поздно – мне все одно.
Нам с тобой по пути.
Каждый день я приношу жертвы – оттянуть момент людской смерти.
Разберу забор, сожгу жерди для небесной золотой тверди.
В каждом пламени кусок солнца, обещание плодов урожая,
души предков, черный прах сердца ворошу я и вопрошаю.
Вторят пению огнем жарким Книга мертвых, Беовульф, Авеста,
пусть любви нашей горят подарки, чтобы новым оставалось места.
Семь костров разведено на кручах сохранить покой твоих хижин,
семь дубов я повалил могучих, чтоб владыка мой был не обижен.
Много в доме топоров, спичек… С полок идолы глядят одним глазом.
Я от шкурных ухожу привычек, во мне вспыхнул коллективный разум.
Из себя я изгоняю бесов, наступаю в темноте на грабли.
И осокою ладонь порезав, я соленые слизнул с нее капли.
Я одежду рву, бью посуду, наш любимый раздолбал чайник.
Накопительство сродни блуду– мне всевышний говорит начальник.
В плоскодонку я сложил болезни: скудоумие, холеру, оспу…
Пусть плывут они к такой-то бездне, по реке прямо в открытый
космос.
И воде я возвращаю рыбу, что сгорбатившись удил часами.
Я и сам готов взойти на дыбу с незавязанными глазами.
Был народ такой, звались кимры. Все награбленное – сжигали.
Скоро я, как и они, вымру. Буду пьянствовать в их Валгалле.
Ну а ты живи судьбой женской, с кем захочешь в непростой жизни.
И себя, не принося в жертву, вой вакханкой на моей тризне.
Читать дальше