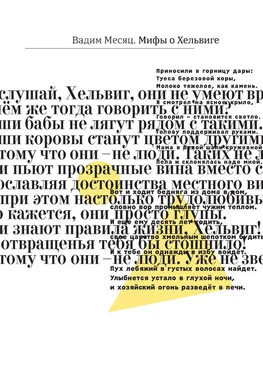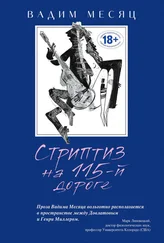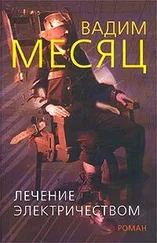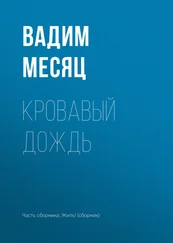У мертвых тоже есть царь.
Теперь им умер мой брат.
Звездою Лувияарь
Очерчен его закат.
На грани ночи и дня
Мы передаем венец.
Огнем буду править я,
Тьмою – мой брат близнец.
У мертвых тоже есть рай,
Бескрайний яблочный сад.
Крест-накрест как вход в сарай
Заколочены двери в ад.
Я обойду войска
В слезах из конца в конец.
Забудутся боль-тоска.
Вас встретит мой брат-близнец.
Все схвачено. Скручен век.
Немыслим обратный ход,
Когда на гойдельский брег
Вступает имперский флот.
Скопленье подземных звезд,
Небесных прочней заплат.
Жесток, откровенен, прост
Бессмертный отцовский клад.
Вот и встретимся на том свете.
Там никто не знает про ложь.
Согласимся на прежней мете.
Но запомни – в этом кисете
ты мне мой табачок и вернешь.
Ты узнаешь меня по перстню,
ты мне выковал его сам.
Но от верности в грудь не бейся,
мы слыхали такую песню:
я узнаю тебя по глазам.
Поле, устланное цветами,
а над полем звездная твердь.
С кистенями, клинками, кнутами…
Сколько вас таких вместе с нами,
что избыли дряхлость и смерть.
Говорят, что нас ждут чертоги.
Мне по нраву такая молва.
Хотя чувствую на пороге,
что в холодной лежит поволоке
путь на радостные острова.
Скоро женщины, пляс и пьянство
и всю вечность дым в потолок.
Что тебе дармовые яства?
Повторяю из окаянства:
не забудь про старинный долг.
По закону прощенной стали
самодурством смешить народ.
Чтобы мертвые хохотали,
свою вечную жизнь коротали,
а потом прищемили рот.
Все мы лизнули в детстве топор на морозе,
и теперь нашей речи привычней шаманский вой,
чем внятное слово. У пиратов и рыбаков
в каждом горле торчит по рыбьей занозе,
вызывающей кашель до самых до позвонков.
Озябшие сети полны морскою травой,
и тащатся по песку как кривые полозья.
Мы вряд ли поможем делу своей головой,
сберегая угодья, колдуя над караваем.
Труд хлебороба нелеп в вековой мерзлоте,
сколько ни удобряй эту почву кровопролитьем.
Как побитые псы, мы бредем навстречу открытьям,
и Господень рай на соседней лежит широте.
Через мгновенье мир станет неузнаваем!
Ликуйте! Рукоплещите! Мы отплываем!
Чтоб вернуться со щитом или на щите.
Адам и Ева спрятали первых детей
в чаще дремучей, как великую тайну от Бога.
И он превратил младенцев в лохматых чудовищ,
стыдящихся клыков своих и когтей.
Мы их потомки в зловонных звериных шкурах,
на развилке неисповедимых Его путей…
Что скажешь о расхитителях страшных сокровищ,
о бабниках, кровопийцах, о самодурах,
чьими ногами смята романская тога,
а убийства бездумны, словно раздавленный овощ.
Один только закон «око за око»
стал для них полноценным гражданским правом,
он пиршеством освящен, наважденьем кровавым,
словно они не люди, а волчья стая, —
не народ, а бездомный медведь, что, век коротая,
гуляет от Ледовитого моря до стен Китая.
Они оставляют нас наслаждаться собой,
уходя впопыхах, в никуда запасными морями.
На Запад, где проживают их мертвецы…
где острова, говорят, укрыты коврами
из мягчайшего ворса патоки и пыльцы.
Вот они грузятся в лодки гурьба за гурьбой,
громыхая жердями абордажных крюков и рогатин.
Они неуклюжи, хотя щебечут словно скворцы, —
должно быть, этот язык им самим непонятен.
Они изжили постыдную страсть передела
империй, что расползаются на куски
не от грохота их барабанов, а от тоски.
Вандалы уходят. C ними уходит великое дело.
Теперь ни к чему триумфальным венком украшать виски.
Небо над континентом совсем обмелело.
Все надоело, бормочут они. Как все надоело!
Европа, что служила подстилкой быку,
святая юдоль, потерявшая дар обольщенья,
выскальзывает из-под ног шаткой льдиной,
даже лодка из рыбьей кожи ее надежней.
Когда мачты под шквальным ветром согнутся в дугу
и Лососевый фьерд захлебнется болотною тиной,
унылые морды богатства и пресыщенья
станут еще нестерпимей, еще ничтожней.
Чуждые таинствам зрители мерзких побоищ,
властолюбцы, которым не хватает духу
одарить гладиатора павшего – смертью…
а помилуешь зверя – словно живым зароешь.
Разве золото можно разменивать медленной медью?
Разве можно за флягу вина и хлеба краюху
полюбить скотоложицу эту и потаскуху,
и остаться в истории предавшимся долголетью.
Читать дальше