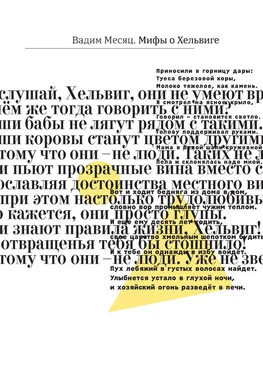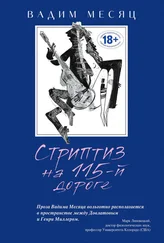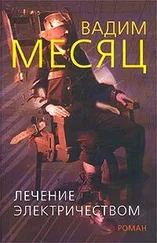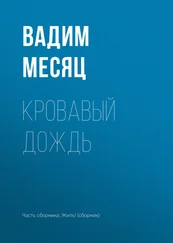Италия, Хельвиг, пришлась бы нам по душе.
И было бы хорошо поменяться местами,
землею, садами, стадами, пространством жилья.
И бабами. Это вот верно. Но кто же захочет?
В презренье и зависти бедное сердце клокочет.
Наслать на них пламя чумы! И засыпать могилы цветами.
Или ветер волхвов, конопляные мнущий поля,
чтоб квириты сошли с ума и бросилось в море?
Но чарам они неподвластны. Ко всему привыкли уже.
Медведем, в лавке посудной изранившим тело,
певцом косоротым с заштопанными устами,
белугой реветь тебе в хоре на белом море,
полынь тебе кружкой хлебать, а не сладость лозы.
И снова бормочут гребцы в преддверье грозы.
Прощай, о Агенора дщерь! Ты нам надоела!
И огромные, словно весла, топорщат усы.
И хоругви полощут по ветру образ козы.
Мы отдавали двоих рабов за мерку вина,
ибо праздник дороже поденщины выживанья.
Наша доблесть пропитана мухоморным отваром
и дымом с жаровен морочащих трав.
Опьяненные кровью быка, нефтью, сернистым паром,
чемерицею, волчьим лыком, мутной хаомой,
что собирают при свете луны в левый рукав…
Если вспомнить все, что мы пили, все, что жевали,
то наследье вольных веков обернется кошмаром.
Мы прильнем к зеркалу мира, к стене его заоконной.
И горькая на наших улыбках застынет слюна.
Орда синеокая, чьи глаза побелели от снега
и смрадной сивухи, рвет из последних сил,
не признавая законов движения вод и светил,
в поход за виноградом в страну Норумбега,
И мертвые на подмогу поднимаются из могил.
В щетинистых шкурах, в штанах из цветного холста,
под знаками солнца, креста и великой спирали,
они идут туда, где земля дает урожай
без помощи пахаря. Там виноград бесхозный
цветет, соревнуясь с лозою лестригонийской.
Наши помыслы праведны, цель безупречно чиста.
Не за это ли наши деды и прадеды умирали
в справедливых набегах, в пещерах ночью морозной?
Пустые кувшины и фляги гремят на корме,
нисходя с ноты высокой до самой низкой.
В нетерпенье похмелья Норумбега кажется близкой,
Всегда кажется близким заманчивый край.
И Железный век, пребывая в трезвом уме,
провожает в век Золотой завистливым воем
счастливых подонков, коли счастье дано только изгоям.
Только они готовы навек остаться во тьме.
Было в твоем лесу желудей по колено,
а теперь одна скорлупа.
Зачем ты приперся, Хельвиг, назад ступай,
под ногами твоими шуршит измена.
Овраг, в котором с любимой ты возлежал,
зверем пропах, будто он – логово зверя.
Зря ты, Хельвиг, ладони свои разжал:
не земля, а ты – этой земли потеря.
Ты переплыл для нее десятки морей
На весельных лодках, самых кривых и дряблых,
Чтобы оставить одних на острове Яблок
Одну за другой бесстыдных своих дочерей.
Что ты медлишь, что ластишься к животам
каменных баб, если дыхание коровы
созвучней твоей душе, чем голос крови,
поющей бескрайние песни твоим следам.
Выйди во двор и стой там до тех пор,
пока я сама тебя не покину.
Из ведра я выплескиваю твой позор,
на прощанье в спину.
И тогда Хельвиг попросил мамкину грудь.
И его голос
застыл в жилах народов как ртуть,
не поднимаясь больше ни на один градус.
Случается ночь, когда к дому подходит пес.
На груди его роза, в глазах беготня колес.
Он рыжий, он добрый, он умирает от слез.
Он кто-то из забытых тобой мертвецов,
для которых в сердце уже не осталось слов,
и ты не знаешь, оставить ли дверь открытой.
Из двух неубитых прав голодный и битый.
И ты впускаешь его, ибо он таков.
Он останавливается на ночлег
кратковременно, словно апрельский снег,
или с крыши крыльцо завалило снегом.
Ему под голову я положу десять своих рубах,
забуду свой страх.
И жизнь свою подарю калекам.
Здравствуй, приятель, как ты лохмат!
Ты прекрасен как в рыжей тайге закат.
Хорошо, когда и на том свете у тебя есть брат.
Ты посланник,
ты по миру блуждающий странник,
или боги преподнесли мне новую блажь?
Спросим проще: ты меня продашь?
Оба мы звери, мы поняли и молчим.
Мы до утра не заплачем, не закричим.
Мы помолчим с этим застенчивым человеком.
К пьянице ночью приходит зверь
К пьянице ночью приходит зверь, всеми забыт совсем.
Как я оставил открытой дверь, лампу зажег зачем?
Читать дальше