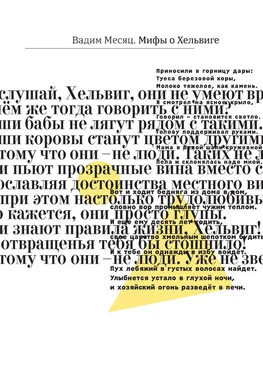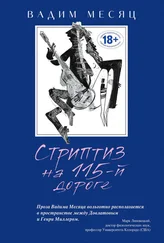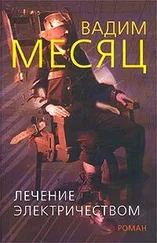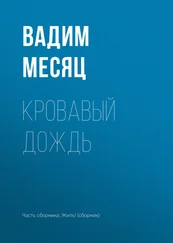Мама шаль тянула по траве,
до неба глядела и уснула,
королевне северной во Литве
называла имя страшное – Улла.
Королевна шла по глухим углам,
высоко у стен тяжелых вставала.
И меня к своим водяным губам,
словно круглый камешек, прижимала.
Ты кормил медвежонка на краю капустного поля,
и вокруг простирались распаханные поля.
И туман стелился по пашне до водопоя
полусонным, усталым войском.
На душе было скользко от беспричинных обид.
На рассвете в прохладных палатах скрипели доски,
когда ты воровал сахар из царевой казны.
И теперь, когда приходит время войны,
этот кедровый пол, как прежде, скрипит
в сердце – оно всегда остается с тобою.
Добрый зверь и ужасный друг, это все, что таким,
как ты, нужно в детстве. И птичьи хлопоты нянек
плещутся словно крахмальный, летучий дым
над сбитыми в кучу подушками и простынями
первой смерти.
Неяркий рассвет сиротства
освещает ступени прилежнее, чем слуга,
и все стены полны разбегающимися тенями;
разверзаются хляби бескрайнего потолка…
Ты плачешь, чтобы не видеть свое превосходство.
Не стучишься в дверь, а толкаешь ее слегка.
И десницей мгновенно стала твоя рука
с куском сахара…
В один из пасмурных дней тебя за руку возьмут.
Между круглых камней по полю поведут.
В гуле голых стволов будут гнуться леса.
В поле мертвых голов омертвеют глаза.
Ты в небо волком завыл – и на три года ослеп,
но солнце остановил, чтобы вырастить хлеб.
Не вымолвить языком все, что придет на язык:
как гнева твердеющий ком, слагался в господа лик.
И сонмы круглых могил, что скатились с холмов,
стали прахом черных светил и нездешних псалмов.
Когда станут ножи холодней, жатвы первым трудом
между круглых камней мы кругами пойдем.
Опустив на купола покрывала
средь зеленого людского простора,
с неба радуга детей воровала,
опускала свои руки в озера.
В бусах яблочных и шали цыганской
в очи детские глядела уныло.
До империи чужой оттоманской
она в сердце их своем уносила.
Она сердцем их своим согревала,
перед тем как передать души зверю.
Чтобы мамка до рассвета не знала
про великую свою про потерю.
Они ехали на бричках злаченых
по мосту, где не звенели колеса,
облаченные в печаль разлученных
до последнего босфорского плеса.
Зарыдали, как увидели берег,
полумесяц на старинных соборах.
Тебе, радуга, никто не поверит.
Вера кончилась в ночных разговорах.
Ты мне, ведьма, подари урожаю,
жита спелого и желтой пшеницы.
Это я в тяжелых муках рожаю,
а тебе бы только крови напиться.
Ты не думай, что меня ты обманешь,
зачарована тобою – ну вот уж!
Его матерью надолго не станешь:
не подкидыш он тебе, а подменыш.
Мой звереныш со змеенышем дружит.
Тебе завтра его станет не надо,
когда страшную он службу сослужит
для украденного Царьграда.
Пока в Киеве кричал зазывала
с перетопом да веселым повтором,
в небе радуга детей воровала,
наклоняясь по лесам, по озерам.
Сложи мне костер, надежнее, чем острог,
сколоченный на морозе январским днем.
За такой урожай государь не берет оброк,
здесь крепость моя и дом.
Из деревень не собирай трудовой народ,
Кому надо, сам на огонь придет.
Топорами сверкает иней седых бород,
и ветрами изодран широкий в улыбке рот.
Гляжу на людей, а вижу в снегу погост.
У девки молоденькой на дорогом платке
вышит павлин, распростерший узорный хвост
на Иордане, иудейской реке.
Вот она радость, которой никто не ждал.
Лучший подарок в день моих именин.
Яркий, как многоцветный резной кристалл,
райские перья в толпе распустил павлин.
На Иордане, непостижимо глухой реке,
на одном берегу стоит поп, на другом – раввин.
Купает крылья свои в золотом песке
голубь запретного мира, чудной павлин.
Зачем ты, родная, сегодня пришла сюда?
Покрасоваться? Ни у кого нет таких платков.
В просветах сосен тлеет моя звезда,
а сосны стоят рядами до облаков.
Алмазные горы, коралловые леса…
Сколько чудес я оставляю на этой земле.
Чудесней, чем все иноземные чудеса,
то, что где-то люди живут в тепле.
Читать дальше