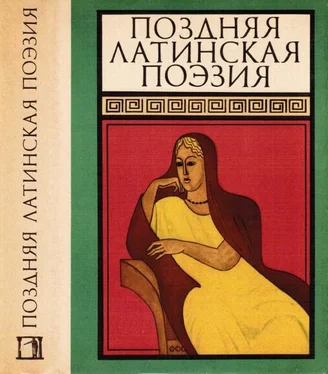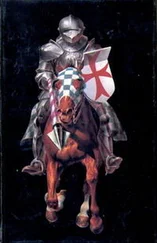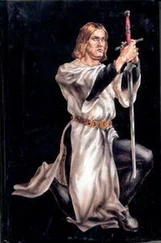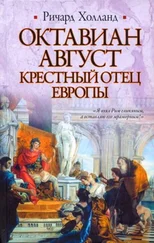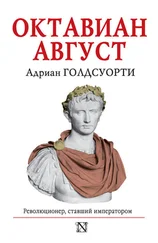I Хвала Солнцу. — В «Салмазиевском сборнике» не сохранилось, но уцелело в родственном ему «Туановском» (IX в.). Две следующие «Хвалы» извлечены из различных рукописей IX–X вв. («Хвала Луне» приписана некоему Клавдию) и, по-видимому, принадлежат более позднему времени; напротив, два «Моления» принадлежат к числу самых ранних стихотворений этого раздела; слог их архаичен (стилизован под заклинания), хотя обращения вроде «величье ваше» выдают эпоху империи. В некоторых рукописях они примыкают к медицинскому трактату «О траве-буквице» Антония Музы, врача императора Августа, и даже прямо ему приписаны, но это — явный домысел переписчика.
Хвала Луне. Систр — см. примеч. к Посланию Авсония Павлину (4).
Кроткие тельцы изображались запряженными в колесницу Луны.
Моление всем травам. Та, кто вас творила — Земля; Блюститель врачеванья — Аполлон-Пеон.
Ночное празднество Венеры. — Автор этого знаменитого произведения неизвестен; в разное время оно приписывалось лирику Валерию Катуллу, его тезке мимографу Катуллу, философу Сенеке, Апулею, Аннию Флору, Вибию Флору, Тибериану, Флавиану, Сидонию Аполлинарию, Луксорию и, наконец, имитаторам эпохи Возрождения. Столь же неудачны были попытки уточнить и время его написания, в частности, определить, какой римский император подразумевается под «Цезарем» в ст. 74. Стихотворение построено как гимн для апрельского празднества в честь Венеры, справлявшегося в течение трех ночей; предполагаемое место действия — Сицилия (города Гибла и Энна, ст. 49–52). Вначале Венера изображается в обычном своем облике среди других богов ( Делия , ст. 38, — Диана); затем (ст. 59) изображается в космическом масштабе рождение Венеры из пены морской; затем (ст. 63) она прославляется как «мировая душа» (пневма), проницающая все мироздание, согласно учению стоиков; затем (ст. 69) как мать Энея ( троянских внуков ) и прародительница римского народа ( из Лаврента дева — Лавиния , жена Энея; Марсу даст из храма деву — весталку Рею Сильвию, которая родит Ромула и Рема; рамны — одна из трех триб, на которые первоначально делились римляне; брак римлян и похищенных сабинянок описан у Ливия, I, 9); заканчивается стихотворение опять общей картиной весны и любви ( Филомела — соловей, сестра ее — Прокна-ласточка, варвар-супруг Прокны, изнасиловавший и изуродовавший Филомелу, — фракийский Терей-удод; см.: Овидий. Метаморфозы, VI, 412–674); об Амиклах см. примеч. к Авсонию, «О преподавателях», 15.
Песня гребцов— редкая в античной поэзии стилизация трудовой песни.
Кор (Портун) — римский бог портов и гаваней.
II Пентадий . Наступление весны. Элегические дистихи, в которых первое полустишие гексаметра повторяется во втором полустишии пентаметра, назывались «эхоическими», «эпаналептическими» или «змеиными»; самый ранний пример их — начальное двустишие элегии I, 9 у Овидия: «Всякий влюбленный — солдат, и есть у Амура свой лагерь; // В этом мне, Аттик, поверь: всякий влюбленный — солдат…»
Нарцисс. «Нарцисс почитался сыном потока Кефиса и нимфы Лириопы. Влюблена в него была Эхо, которую Пентадий называет Дриадой» (примеч. В. Брюсова).
Могила Ацида. — Принадлежность Пентадию сомнительна. «Ацид — река в Сицилии, у подножья Этны, названная, по мифу, в память сына Фавна, любовника Галатеи, убитого циклопом» (примеч. В. Брюсова).
Хрисокома. Двустишие «замечательно необыкновенной сжатостью речи. Некая Хрисокома (т. е. „златовласая“) была обвинена в неверности мужем, который в гневе едва ее не убил. Тогда Хрисокома отдалась тому судье, который должен был ее судить. Судья оправдал преступницу, так как сам был соучастником преступления. Этот анекдот втиснут Пентадием в пределы одного двустишия, которое требует от читателя острого внимания и умения понимать намеки» (примеч. В. Брюсова).
О женской верности. — Кроме Пентадия, эта эпиграмма приписывалась также оратору Цицерону, его брату Квинту, Петронию, Авсонию и Порфирию Оптациану.
Модестин . Спящий Амур. Каждая из десяти жертв любви (см. выше примеч. к Авсонию, «Распятый Купидон» и др.), предлагая казнь, напоминает о собственной участи.
Читать дальше