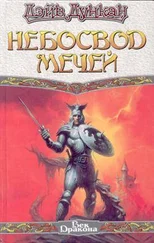Где книжки записные с адресами,
свиданья под почтовыми часами
и крохотного сына пятерня,
простой и ясный свод житейских правил?
Всё там. В стране, которую оставил.
В стране, в которой больше нет меня.
Мама, я здесь, я сегодня вернулся домой.
Память моя оторочена чёрной каймой:
я ведь не шёл на войну, но попал на войну.
Взять из моих двадцати, да последние два
выскоблить, вычистить так, чтоб дела и слова
сумрачным весом своим не тянули ко дну.
Линия жизни теперь — еле видный пунктир.
Мама, я здесь, но со мной мой изнаночный мир.
Нет в нём покоя, а только тайфун и развал.
Ночью в виски́ мне вгрызается злобный тамтам:
где бы я ни был, я всё же по-прежнему там —
там, где меня убивали и я убивал.
Мама, я сын неплохой, но ведь это война.
Как же тебе не свезло-то — родить пацана!
Лучше бы дочь, хоть какая, но всё-таки дочь.
Взрывы, воронки, сержант продолжает орать…
Ты ли мне мать или всё-таки Родина — мать?
Может, и обе. Понять в восемнадцать невмочь.
Помнишь, я был разговорчив, а нынче я нем.
Школу, недавнюю школу не помню совсем:
всё, как настойчивый ластик, стирает война.
Смотрит на нас чуть брезгливо эпоха в лорнет…
Мама, как страшно и глупо: я выжил, ты нет.
Помню: две матери было…
Осталась одна.
Будешь в Москве — остерегайся говорить о святом.
БГ
…а небо, словно капля на просвет,
прозрачно. Лучик солнца — словно нитка.
В Москве весна. Кутузовский проспект.
Безвредная собянинская плитка.
Дни лета так отчётливо близки,
как шее обречённого — гаррота.
По-воровски пригнувшись, сквозняки
втекают в Триумфальные Ворота.
Набросил хипстер лёгкий капюшон,
малыш случайной луже скорчил рожу…
Совет в Филях давно как завершён,
Москва сдана. Но существует всё же.
И вновь весенний день глаза слепит;
столетия играют в подкидного…
История нажала на «Repeat»,
чтоб в виде фарса повториться снова.
И моет «Мерс», ворча на голубей,
в сухих губах мусоля сигарету,
таджикский гастарбайтер Челубей
столичному мажору Пересвету.
Ни хозяина нет, ни начальницы,
небо сине. Окрестность ухожена.
Нет причины Адаму печалиться —
беспечальность в подкорке заложена.
Ни Бали, ни Сорренто, ни Плимута,
но душа не встревожена, странница:
в том примета эдемского климата,
что он просто не может не нравиться.
Солнца жар, антилопа беспечная…
И понятно лишь нам, наблюдателям,
что Адам на безделие вечное
обречён бородатым Создателем.
Наш герой вечерами бесхозными,
глядя в неба простор обесцвеченный,
с только что сотворёнными звёздами
говорит на неясном наречии.
Змея нет. Евы нет. Рёбра — в целости.
И маршрут (почти каждый) — нехоженный.
Одиночества чуткие ценности
пред Адамом, как карты, разложены.
Ну, а днём он пускает кораблики
по ручью, вдоль потока холодного…
Жилкой бьётся в адамовом яблоке
невозможность греха первородного.
Из камня — ввысь, сквозь сны и времена
растёт страна, где рая с адом двери…
Коль нет войны — то всё равно война,
и мира нет, как жизни на Венере.
В смешенье рас здесь разберись сумей;
Коран сменяют Библия и Тора…
С улыбкой смотрит первородный Змей
на наливное яблоко раздора.
О, как слепящ здесь воздух поутру!
Спешат куда-то Фатима и Сарра…
Вплетён в ближневосточную жару
пьянящий ор восточного базара.
Я здесь никто: пришелец и плебей,
мне говорить и не о чем и не с кем.
Зовёт велеречивый воробей
своих друзей на древнеарамейском.
А время мчится: то вперёд, то вбок,
но всех живущих тут клеймит незримо…
Своим дыханьем троеликий Бог
туманит стены Иерусалима.
Пост-Хэллоуин. Ухмылки Лона Чейни
исчезли. И деревья в ноябре
застыли в красно-жёлтом облаченье,
домашние, как комиссар Мегрэ,
в предзимнем ожиданье хорошея…
В преддверии отлёта за кордон
взирают чайки, наклоняя шеи,
на крошки хлеба, вмёрзшие в бетон.
Собратья их, слагаясь в вереницы —
уже в пути, спасаясь от беды.
Ты, осень, упраздняешь все границы
и, как в кино, смываешь все следы.
В такую осень я и сам — без глянца…
Но, отдаляя тягостный итог,
крупицы несведённого баланса
впадают в зазеркальный водосток.
Случайных встречных всё печальней лики,
и тянутся к нам в души поутру
артритные побеги повилики,
прорвавшие земную кожуру.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу