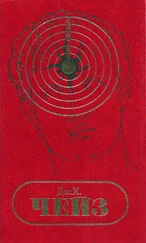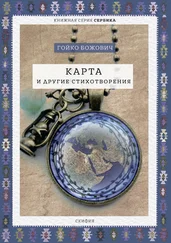Мне навстречу прохожие — листья
в обе руки.
Отпустили деревья на ветер свои стихи,
и струится в воздухе золото высшей пробы.
Не уходи.
Останься сейчас с собою.
Не уходи.
Не уходи.
Пусть другие тебя покинут —
так и уходят гуськом спина в спину.
Ты можешь позволить себе остаться.
Не уходи.
Не уходи.
Ты никогда не узнаешь,
кто был с тобой в эти дни,
только — что не один.
«Свои отложив злоключенья, возьму…»
Свои отложив злоключенья, возьму
тяжелый том Мандельштама.
В его помутившийся воздух войду —
и вздрогнет сердце обманно,
и не затянется рана.
«Сквозь буквы, черные, как угольки…»
Сквозь буквы, черные, как угольки,
огня еще я чувствую дыханье,
и он, угаснувший, в о с п л а м е н я е т.
На расстоянии моей руки,
что бережно чужой дневник листает,
раскрылось сердце, и его страданью
нельзя не сострадать. Скажи, зачем
мы боль передаем как эстафету
от сердца к сердцу, чтобы не погасла,
чтоб не исчезнуть в мире ей совсем.
Несколько месяцев подряд моим чтением были книги стихов и прозы и дневники русского поэта, жившего во Франции в начале прошлого века. Только два романа его я сразу отложила на отпуск. Еще не решив, где проведу его, уже точно знала, что буду читать.
Пришел отпуск и оказался коротким и заполненным другими делами. И после не принялась я за роман. Общение, которое в большой мере было содержанием моей жизни всю зиму и весну, прервалось.
Я поняла это, когда понадобилось найти цитату в блокноте с многочисленными выписками из дневников поэта. Все мне тогда казалось важным, все хотелось сохранить. Отыскав цитату, я едва узнала ее. Даже перечитала несколько раз — я не находила в ней тех смыслов, которые запомнились. Будто вошла в покинутый надолго дом — неосвещенный и холодный. И оказалось, что обживать его нужно заново и что без моего участия не будет гореть в нем огонь.
Так «о чем же ты будешь искренно, смешно и бесформенно писать?»…
«Салфетку ажурную эту соткал паук…»
Салфетку ажурную эту соткал паук.
Ее украсил собою июньский пух.
Я оглянулась — запомнить, но чья-то рука
смяла уже творение паука.
…Долгим ли, кратким окажется путь стиха —
вот эстафетная палочка паука.
«Только бы музыка не ушла…»
Только бы музыка не ушла,
не оставило слово.
Основа жизни проста,
проста
и прорастает снова —
на этот раз строфами
Щербакова.
Пока я умираю —
я живу.
Живу — и шаг за шагом
умираю.
Как с этим примириться,
я не знаю
с тех ранних дней,
когда острей
предчувствуется жизнь
и ранит
о смерти мысль.
Отдельно — смерть.
Отдельно — жизнь.
«Стоит сосед, еще живой…»
Стоит сосед, еще живой,
с улыбкою глядит.
На что — не видно из окна:
улыбка странная видна.
И мысль мне странная пришла:
стоит сосед, еще живой.
И хоть о каждом можно так сказать,
нелепо думать это всякий раз,
когда живого видишь человека.
Мы и не думаем так всякий раз.
«Ребенок был мудрец среди людей…»
Ребенок был мудрец среди людей.
Он — погружен в таинственное —
имена давал всему, что видел.
Он весь был жизнь и свет и расточал их
и получал взамен себе оковы.
Он был так беззащитен!
И скоро не могли его узнать — он затерялся,
неотличимый от других.
Уже окреп и знал ненужное,
а важное забыл —
откуда он… зачем пришел… вернется ли…
А скоро
и думать позабыл об этом.
— Не хочу шарик!
Он лопнет! лопнет!
Поплачь, малыш, —
уже бессильней, тише.
Как лопнет шарик —
сгинет наша жизнь:
моя, твоя…
Красиво как
по нам
звонят колокола.
Мы слышим.
«Тем, кого ведут умирать…»
Тем, кого ведут умирать,
уже некуда больше спешить,
их отставляют дела,
им одно остается — жить.
И оказывается, что жить — это и было
самое важное дело.
Но за жизнь разучаются жить
те, кого ведут умирать.
Разве что… выживать…
столько сил положить…
А жить — это самое простое, что умеют
камни, деревья, звезды, воробьи, собаки
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу