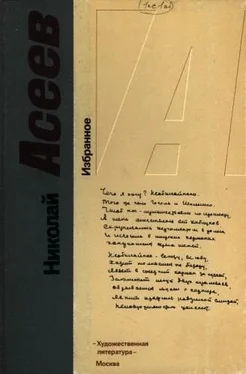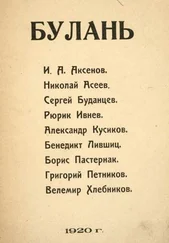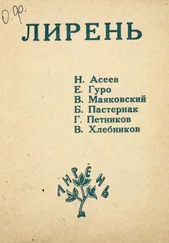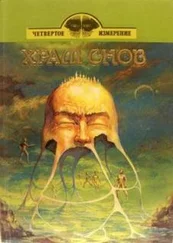…Уезжай, уезжай скорей,
пропадай посреди морей.
Я след твой влажный возьму со дна –
на сотни верст глубина видна.
…Улетай, улетай, улетай к небесам,
я, ногти сорвав, взберусь к тебе сам,
упрямый взор прицеплю к звезде,
чтоб жег твое сердце везде, везде.
…Еще закачается под нами неба вал,
еще случится, чего не видано.
Я участь эту себе потребовал,
и будет, будет мне она выдана.
V
И снова останемся с глазу на глаз
следить и читать от доски до доски
в глазах твоих жалкую нежную наглость,
в глазах моих – лживую тень тоски.
А мне бы – без звука схватить и вымчать
тебя из звериных когтистых лап,
но поздно. Залив и ленив и дымчат,
тебя все равно волна унесла б.
Но поздно. Ты в сумрачной носишь сумке
стальную, до времени стихшую смерть,
пусть в небе веселом весенние думки
зовут и плывут и сияют: «Не сметь!»
VI
Но – разве смело
приставить дуло
в уклон виска?..
Лицо – из мела,
и – разом сдуло
весны рассказ.
И разве – храбрость
подставить сердце
под свой удар?..
Ведь если на борт
кренится сердце, –
куда? Куда?!
VII
Ничего не отвечала,
только – жилка билась шибко –
рвало сердце грудь,
да у алого причала
мглилась в горькую улыбку
первых весен грусть.
И от слов ли, от грусти, от эха ли,
не поймет она, видно, сама,
вслед за нею – поплыли,
поехали переулки, сады и дома.
Темный город на привязи кружится…
Вот он – дрогнет и тронется прочь;
в нем весенняя каждая лужица
расплескалась рыданьями в ночь.
Все отметят лишь беглое облако,
я ж запомнить успею одно:
как за молнией горького облика
Уходила земля из-под ног.
VIII
И когда прибежали
знакомые, –
как расспросишь, о чем и о ком ее?..
Так же дни дребезжали, влекомые
лошадиною силой земной…
За мной!
Я сейчас расскажу
про жуть
этих первых слепых этажей.
Это ж ей
и пришлось познакомить
сердце с пулей так близко, так коротко
из-за жирного жадного выродка,
половицы прогнувшего в доме.
IX
Спеши
на подушках мигающих шин
с распластанной навзничь любиться!
Скорее, скорее, скорее, убийца,
над мертвой пляши!
В судорогах последних опадающего живота
выуди судорогу страсти,
зови за собою очередь жирных ватаг –
она у тебя во власти!
Она не прогонит,
не плюнет в хайло:
она – растаяла,
стала – покойник.
X
По улицам пахло свечами зажженными,
и дым панихидный свивался в туман,
и смерть расстилалась шагами саженными,
по скользким ступеням сводила с ума.
Угаснувший взор был безлунный и матовый,
надвинулось небо совиным крылом,
и сердце стучало: «Скорее захватывай!
Сегодня – не позже – весны перелом!»
Сегодня, не позже. Но раньше ли, позже ли –
так значит, весна тому стала виной,
что тысячи умерших Лазарей ожили
и встали, туман закачав пеленой?
Так, значит, и мы по небесным развалинам
брели, спотыкаясь, в урочном бреду, –
лишь горних селений названья назвали нам,
как мертвые губы шепнули: «Приду!»
Так, значит, в такую же ночь и задумано,
сосчитано, собрано, связано в нить
беззвучье тоски сумасшедшего Шумана,
чтоб в небе весеннем заразой загнить?
Пусть так. Под одеждой твоей осиянною
я больше весны не увижу опять,
я знаю и помню: тебя Несмеяною
на жизнь усмехнувшейся надо назвать!
XI
Что ж мне жалеть ее,
о милой знакомой плакать,
ту, что теперь гниет
под протравкой весеннего лака?
Жалости в сердце нет,
только в звериной злобе
сердце – стальной стилет,
спрятанный между ребер.
Но если мир-ханжу,
замучивший тебя, встречу, –
в спину ему вонжу
красную правду стилечью
и, поворачивая острие
в дрожащем последней дрожью,
тихо спрошу про нее,
нынче проросшую рожью.
[1919–1922]
Какие умы
чумы не боятся?
И только мы –
кольцо удальцов –
в лицо чумы
смеем смеяться!
Ничто чума,
когда у жены
волосы страстью к старости крашены.
Ничто чума,
когда сожжены
глаза и в зеркале теплятся страшно…
Вчера – глядел:
китаец в схватках
вился, пеной пыль замесив.
А вечер рдел –
губная помадка, –
чесоткой звезд щекочась в небеси.
И я увидал:
косые глазища, –
зрачки почти, почти стекленя,
в моих последней надежды ищут,
последнего в мире видя меня.
Он смолк,
а зрачки я забрал с собою:
они помогут моим сиять,
когда – к последнему мира забою –
себя подведу, чтоб взорваться, – я.
Читать дальше