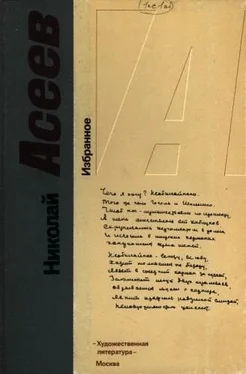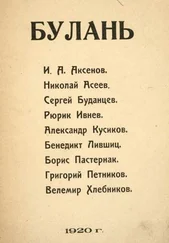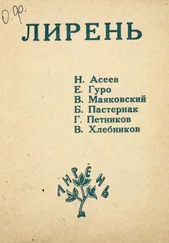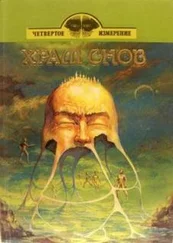1914
Братец Наян,
мало-помалу
выползем к валу
старых времян.
Видишь, стрекач
чертит раскосый.
Желтополосый
лук окарячь.
Гнутся холмы
с бурного скока.
Черное око
выцелим мы.
Братец Ивашко,
гнутень ослаб.
Конский охрап
тянется тяжко.
Млаты в ночи –
нехристя очи.
Плат оболочий
мечет лучи.
Братец Наян,
молвлено слово –
племени злова
сном ты поян.
Я на межу
черные рати
мги наложу
трое печати.
Первою мгой
сердце убрато.
Мгою другой
станет утрата.
Отческий стан
третьей дымится.
Братец Наян,
что тебе снится?
1914
«Я знаю: все плечи смело…»
Я знаю: все плечи смело
ложатся в волны, как в простыни,
а ваше лицо из мела
горит и сыплется звездами.
Вас море держит в ладони,
с горячего сняв песка,
и кажется, вот утонет
изгиб золотистого виска…
Тогда разорвутся губы
от злой и холодной ругани,
и море пойдет на убыль
задом, как зверь испуганный.
И станет коситься глазом
в небо, за помощью, к третьему,
но брошу лопнувший разум
с размаха далеко вслед ему.
И буду плевать без страха
в лицо им дары и таинства
за то, что твоя рубаха
одна на песке останется.
1915
«Еще! Исковерканный страхом…»
Еще! Исковерканный страхом,
колени молю исполина:
здесь все рассыпается прахом
и липкой сливается глиной!
Вот день: он прополз без тебя ведь,
упорный, весенний и гладкий.
Кого же мне песней забавить
и выдумать на ночь загадки?
А вечер, в шелках раздушенных
кокетлив, невинен и южен,
расцветши сквозь сотни душонок,
мне больше не мил и не нужен.
Притиснуть бы за руки небо,
опять наигравшее юность,
спросить бы: «Так боль эта – небыль?»
и – жизнью в лицо ему плюнуть!
Зажать голубые ладони,
чтоб выдавить снежную проседь,
чтоб в зимнем зашедшемся стоне
безумье услышать – и бросить!
А может, мне верить уж не с кем,
и мир – только страшная морда,
и только по песенкам детским
любить можно верно и твердо:
«У облак темнеют лица,
а слезы, ты знаешь, солены ж как!
В каком мне небе залиться,
сестрица моя Аленушка?»
1916
«Если ночь все тревоги вызвездит…»
Если ночь все тревоги вызвездит,
как платок полосатый сартовский,
проломаю сквозь вечер мартовский
Млечный Путь, наведенный известью.
Я пучком телеграфных проволок
от Арктура к Большой Медведице
исхлестать эти степи пробовал
и в длине их спин разувериться.
Но и там истлевает высь везде,
как платок полосатый сартовский,
но и там этот вечер мартовский
над тобой побледнел и вызвездил.
Если б даже не эту тысячу
обмотала ты верст у пояса, –
все равно от меня не скроешься,
я до ног твоих сердце высучу!
И когда бы любовь-притворщица
ни взметала тоски грозу мою,
кожа дней, почерневши, сморщится,
так прожжет она жизнь разумную.
Если мне умереть – ведь и ты со мной!
Если я – со зрачками мокрыми, –
ты горишь красотою писаной
на строке, прикушенной до крови.
1916
«Оттого ли, грустя у хруста…»
Оттого ли, грустя у хруста,
у растущего остро стука,
синева онемела пусто,
как в глазах сумасшедших – мука?
Раздушенный ли воздух слишком,
слишком скоро тоской растаяв,
как и я по кричащим книжкам
лишь походку твою оставил?
Или ветер, сквозной и зябкий,
надувающий болью уши,
как дворовые треплет тряпки,
по тебе свои мысли сушит?
Он, как я, этот южный рохля,
забивающий весны клином,
без тебя побледнел и проклят,
и туда – если пустишь – хлынем.
Забывай нас совсем или бросься
через звезды, сквозь злобный круг их,
чтоб разбить этих острий россыпь –
эту пригоршню дней безруких.
1916
«Когда земное склонит лень…»
Когда земное склонит лень,
выходит стенью тени лань,
с ветвей скользит, белея, лунь,
волну сердито взроет линь,
И чей-то стан колеблет стон,
то, может, пан, а может, пень…
Из тины тень, из сини сон,
пока на Дон не ляжет день.
Читать дальше