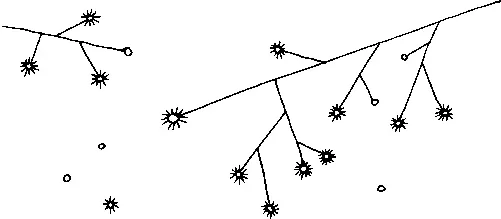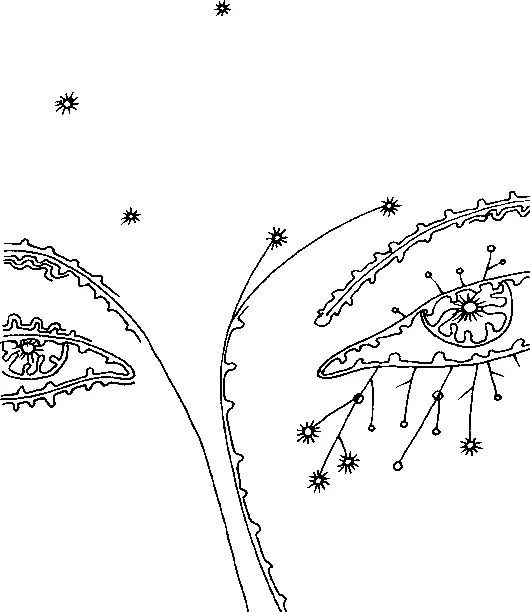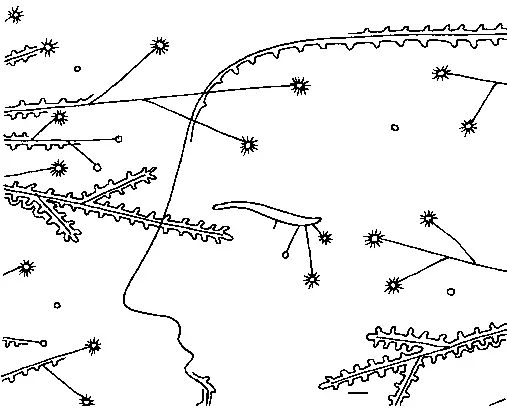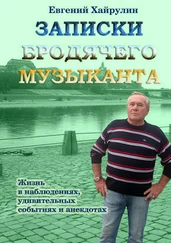О чём же ты, стекло? Ну, хорошо:
наполнено колодцыной водою —
ты празднуешь. Ну, дважды хорошо:
впустило в птичье горлышко рябину.
И трижды хорошо. Я поняла.
Жила Тамара в крепости из роз.
А мой весёлый дом — дворец из сосен,
и звонче даже — замок из ольхи
и цитадель из спорыша и пижмы.
А главное — со мной теперь играет
и превращает свет в цвета — стекло.

Монета, и кувшин, и небесный порядок
Нет, прошлое не мучает меня!
Нет, прошлое не убывает в Лету.
Вселенские причины теребя,
я, следствие прожитого, любя,
вдруг отыщу, подбросивши монету,
в свободе милой, в Будущем. Для света
ни звёзды, ни луна мне не нужны.
События во мне отражены,
как в настоящем — бывшее. Я линза:
былой любви словив зенитный луч,
теперешнюю радость из-за туч
достану и в грядущее забрызну.
Так мой кувшин стеклянный на окне ,
взяв в фокус солнце в пролетевшем дне,
в ночных тишизнах искры остро мечет
оранжевые, синие, чёт-нечет,
мой концентрат дневных лучей — луне
невыплывшей в укор, мне сердце лечит.
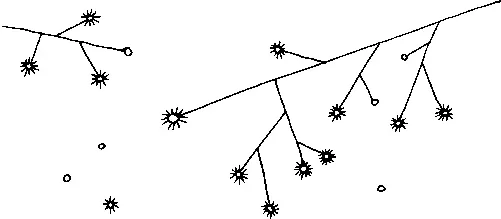
Это я ли в избушке на неком году
между мяток-мелиссок лежу?
По прохладной траве вдругорядь побреду,
в колосков попадаю межу.
Про красивые ножки пропел мне сосед,
эти ножки болят, но бегут.
А по озеру вон разливается свет,
облака да туманы текут.
Но, пожалуй, зарницы всего веселей
и светлей отражаются в ней —
блескозлатой слюде, лиловатой воде —
родников да колодцев ценней.
Разгребёшь тишину, не спеша поплывёшь,
молчаливая ночка с тобой,
волны сладкие пьёшь, звёзд баюкаешь дрожь,
веки в ласковый прячешь прибой.
Это я, это я на песках золотых
так прекрасно и долго живу.
Разбросав по воде невесомый летых,
лето клонит себя ко жнивью.
Я разучаюсь говорить,
я становлюсь почти растеньем,
чтоб можно пчёлам с звонким пеньем
тайны судеб во мне творить.
Превозношу лишь умолчанье,
я в красном панцыре жучок,
мой век до утра дотечёт,
а там растаю в океане
меж вод и воздухов. Я — слёт
пыльцы сквозь пальцы конопляньи,
и вздроги росок на поляне,
и свет, что к ним звезда зашлёт.
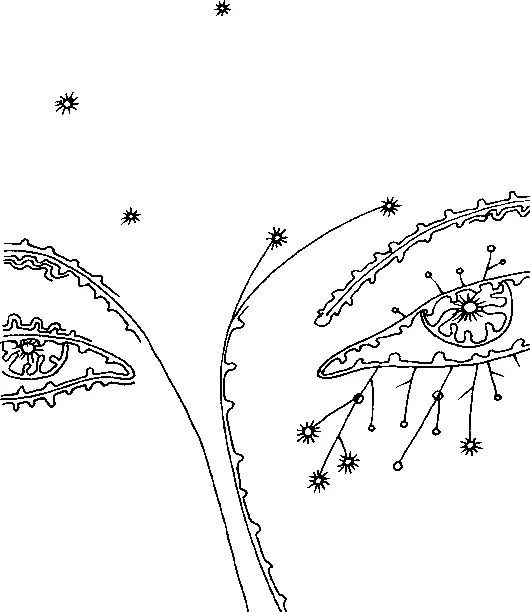
1
Я от вас ухожу , золотая вода,
хотя так и не знаю , где кончается небо ,
и где вы разбросали свои невода,
уловители зорь, чей покой столь целебен?
Широченные реки у земель дорогих —
травяных, ивяных, тополиных, пихтовых
и рябиновых — о, как горчает мой стих!
Как растёт тишина рядом с ритмом подковок,
извлекающих цокот из воздушных пустот
(так — художник из тюбика киноварь и белила),
и как нынешний день из прошедших растёт —
этот рай воспою, чтоб в грядущем любила.
2
Лето наскоро переходит в зиму,
августейший сентябрь с виноградами трав.
Птицы снова хлопочут, забыв, что казнимы
тем, кто в ранге природы не бывает не прав.
Ельник, шубы узорчатой не снимая,
колыбелит младенцев своих под трезвон
колокольцев последних, мотыльковых приманок;
солнце в Нязе полощет осенний сезон.
Лето катит с холмов дозревающий полдень —
волн рябящих дотронувшись, прянет, замрёт...
Это Южный Урал. Он захочет запомнить:
вон, художник стоит над игралищем вод.
3
Ты скажешь: Сыростан, но я иное чудо
познала днесь, зовут Нязепетровск.
В пихтовниках густых душой теперь пребуду,
где — вдаль гляди — стогов покатый лоск
облитость солнцем празднует, просясь в наброски,
творимые усердной детворой.
Кругом снуют стрекозы, пляшут оски:
сентябрь разбросил жар свой даровой.
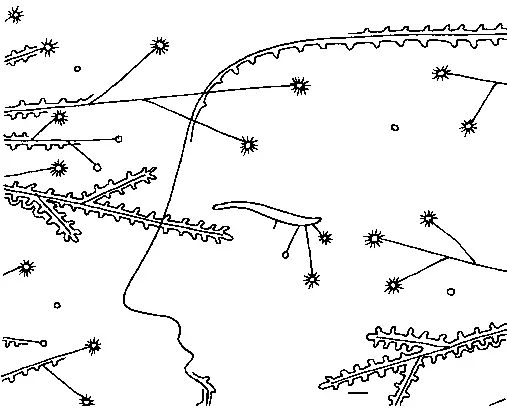
Мальчик: алая рубашка,
прутик шеи, свитерок,
носик, усики, замашки,
танцевальный вечерок...
Но как держит он валторну
в пальцах, слабеньких пока!
Как она ему покорна,
как, тяжёлая, легка.
Он в её витые недра
сквозь серебряный мундштук
долгим, вольным гулом ветра
льёт и цедит влажный звук.
Выдох эха трудный, горный,
горна лагерного зов,
засурдиненный, покорный,
скорбный голос у низов...
— Что ты сделал с нами, властный
глупый мальчик молодой?
— Я надраил медный раструб
у валторны золотой.
Читать дальше