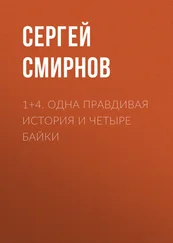За нею не угонишься. И не старайся пробовать.
Но ты, мой свет, особенна: за всё воздастся сторицей.
На звёздные пособия твоя судьба устроится.
Всё стерпится и сдюжится, взовьётся флаг над башнею
и отразится в лужицах весенней бесшабашностью.
Пройдёт пора дождливая и в лето пазлы сложатся…
Ты девочка счастливая. Ты солнцу корчишь рожицы.
Мне с-три короба соврать – дело плёвое,
а вдогонку вру ещё коробок.
Голова моя бедово-соловая —
колобок на перекрёстке дорог.
Ветер гонит рвань свобод вдоль обочины,
жизни у́мерших метёт за сарай.
У моей любви глаза заколочены…
Покарай меня, Господь, покарай.
За грехи друзей-врагов и подельников,
за безумство да вселенский раздрай,
за судьбу, в которой счастья и денег нет,
хоть кого-нибудь, прошу, покарай.
Начинаешь ты не с тех, да и способы
не сказать, чтоб гуманизма полны…
А чему тут удивляться, коль спроса нет
на свободу несвободной страны.
По ночам гулять на крыше заманчиво,
с лунной тропки никуда не свернуть.
Гончий Пёс, один их двух – это мачо мой.
проложил к себе наверх млечный путь.
Со щенков на тех галактиках рос, поди.
Ну и где он, твой расхваленный рай?
Где тот старец, что выслушивал «Господи,
всех обманутых, прошу, не карай»…
тебе, или питерская зарисовка…
Ты не суди меня, промозглый день,
ломающий сюжет осенней призмой.
Сойти с ума: наипервейший признак —
обидеться на собственную тень.
Где дама пик меняет масть на треф,
там шпиль проткнёт расквашенную землю.
Вселенскому кошмару тихо внемлет
сбежавший из кумирни грозный лев.
Ах, только б не сорваться, не пропасть…
Я прошепчу таинственное слово.
Мой милый мальчик жизнью избалован.
Не той, что растопыривает пасть,
а той, в которой не было войны.
Где запредельность фраз «пора проститься»
в морщинах перечёркивала лица
и честностью страдали пацаны.
Ломают ход привычного кино
семёрка, туз и глупая шестёрка,
готовка, стирка, глажка и уборка.
И всякого побочного полно:
замена пробок, в смысле, на щитке,
побелка стен и вантузные плюхи.
Преображенье «кирхе, киндер, кюхен» —
матрёшечная девочка в пике.
Работа, дом, неполная семья.
Долдонит мысль назойливою мухой:
«на мо́ре? вот те раковина в ухо»…
Эх, доля горемычная моя,
когда ты бредишь – ангелы молчат.
Им, бедолагам, грустно и тревожно.
Вгоняют страх инъекцией подкожной
мифические птицы на плечах.
Держись меня… По краю, вдоль стены.
И не пытайся вниз смотреть, не надо.
Где чертенята гордо носят «Прадо» —
предательства и козни сатаны.
Ты лжёшь? – Угу. – А я тобой живу.
Ношу, как дура, в хоспис передачи.
От идиотских мыслей часто плачу…
Палатно-непростое рандеву.
Раскрепощённый Родиной изгой,
солдатик оловянный, но не стойкий,
по битым кирпичам извечной стройки
спускается в придуманный забой.
Судьба моя – мешок, в нём сто заплат.
Пред кем ещё склониться в реверансе?
Не покидай, Господь, прошу: останься,
согласна я на шах. И пат. И мат…
Над нами гул и топот башмаков,
фанатами «Зенита» в город вмяты.
Все запахи бензина душит мята.
Хоронимся в секретный наш альков…
Мосты разводят. Снова. И везде.
Но что с того, когда в уединеньи
над покорённой силой притяженья
смеёмся мы на питерской звезде.
За что мы любим грешную,
являясь в жизни пешками:
до самой смерти нам не распознать.
А как помрём под лестницей —
заплачет, перекрестится…
Какая-никакая —
всё же, мать.
В избе давно нетоплено,
и утирает сопли нам,
и слёзно провожает до ворот.
Вчера была нетрезвая,
так правду-матку резала,
а трезвая с три короба соврёт.
На барский дом служанкою
ворчит, беззубо шамкая:
«Ломать – не штроить, штроить – не ломать».
Никто ей не противится,
не гонит жить в гостиницу:
какая-никакая —
всё же, мать.
Палит Москву пожарами
и низкорослых жалует,
усаживая каждого на трон.
По всем законам физики
перепадает низеньким
в достаточном количестве корон.
А мы всё по-хорошему,
к ней, полуукокошенной,
бездомным, но заботливым подстать.
Со всей сердечной жалостью:
«Мамаша, полежала бы»…
Какая-никакая —
всё же, мать.
Где тянулись года и казалось, что жизнь бесконечна:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
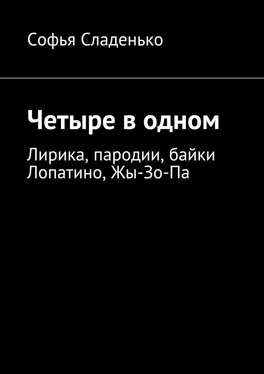


![Софья Ролдугина - Трое для одного [СИ]](/books/27236/sofya-roldugina-troe-dlya-odnogo-si-thumb.webp)