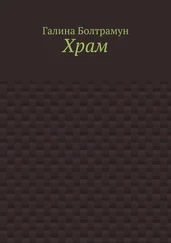«Больной суеты опрометчивые перспективы…»
Больной суеты опрометчивые перспективы
Нарываются на голубеющей статики диво.
Корпускулы легкой ментальности тают в погоде.
Начеку летописец. Курок миротворца – на взводе.
Пожелтевшая классика вечнозеленого Рима
На камнях Колизея разыгрывает пантомимы;
А вокруг, вырываясь из неисцелимости люда,
Жизнь на латыни кричит, что она не отсюда.
И вновь, разогнавшись, вонзают себя перспективы
В пустопорожние, декоративные сини разливы.
В нежных восходах летит всех имен соименник.
В ярких закатах стоит всех эпох современник.
«За чертой горизонта повышена плотность безмолвий…»
За чертой горизонта повышена плотность безмолвий,
соотносится с беспрецедентностью дальний обрыв.
Опрометчивый отблеск двенадцатого измеренья
красит белые флаги сверх- и дочеловеческих армий,
что сдались, уповая на милость, одной из пустот.
Нет воздуха, почвы, воды и слепой эйфории,
что разжигала инстинкт размножения плоти,
и противоборства, что двигало плоть на плоть.
Силлогистика и откровенья в едином порыве
застыли бесповоротно, давно укрощенные высью,
которая застит безмерность Его одинокого счастья.
У горизонта стою, польщена приглашением бездны.
За ширмой багрянца – до Бога все также еще далеко;
и, может, никто никогда не увидит престола Его,
а кровь со слезами и макро- и микрогалактик
стекут в расщепленья и мнимость своих пространств.
Любой экземпляр, от нуля отделившаяся единица
Божьего алчет. От алчности сгинет, второе дыханье
открыв для возможных неведомых пресуществлений.
По ту сторону неба – инаковость жуткая. Может, она
еще безнадежней кислородозависимого прозябанья,
а бездомная мука сошедших с орбит Иисусов
и нирванное счастье безликих надзвездных Будд
перебродят и выпьются Им учрежденною жаждой
в бесконечной дали от Его одинокого счастья.
Мрачный всадник на черном коне
оставляет следы на озерах,
каплю в море, мазок на стене,
что видятся лишь априори.
Из былин, небывалость ища,
убывают в несбыточность рати;
странный луч шевелится в мощах,
вдохновляется Бога (ли?) ради.
Бегло рыцарю вводит заря
дозы собственной розовой крови,
в иды адского календаря
нимбы красят его изголовье.
В конской гриве извечность пылит,
вековую увечность пугает;
а подков дальнобойный магнит
соль земли на оси опресняет.
Бледный витязь в родимом пятне
ощущает позыв не-рожденья
и своей нерожденной родне
обещает вернуться из плена.
Всадник жаждет напутствий того,
кто его, приземлив, окрыляет.
Млечный Путь разомкнул статус-кво,
его тропы к себе приближая;
все летучей плаща вещество,
оживают сегменты регалий…
Сумбурно смещает акценты
вещанье реклам,
в окислах ржавчины – блажь.
Сквозь нетто имуществ и нош
пробивается шарм
невосполнимых пропаж.
Цветущие липы затронул
античный невроз
стирающихся величин.
Еще один день свои ноты
в невечность привнес,
моменты ее улучил.
Холсты груботканой,
местами зияющей мглы
занавешивают кругозор,
чуть переломанные
умозренья углы
меняют окраску шор.
Виды и роды томит
упоительный зов
невидимости, неродства,
но никто выходить из себя
в данный час не готов,
изучая неданности нрав…
Слышна перекличка
бульварщины и мандолин.
Вечерняя совесть тускла.
В хрустальном плену
разрушающийся георгин
обещает не помнить зла.
«Необоримой языческой мглою…»
Необоримой языческой мглою
дышит Кастальский родник;
в октавы и многоголосье недоли
вздох нибелунга проник.
Хрестоматийные дети тумана —
бездетны у дивной горы,
к которой сбегаются меридианы,
спасаясь от войн и жары.
Перепоясанный радугой гуру,
научившись ходить по волнам,
фосфоресцирует в пенном ажуре,
мечет бисер даосский китам.
Бледно горит в катакомбе лампада,
карнавальная маска в углу,
стекает с купели слеза конденсата
в еретическую пиалу.
Ленты, накидки с танцовщиц султана
снимают в мечтах визири…
И все – эфемерные дети тумана
у неаутентичной горы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу