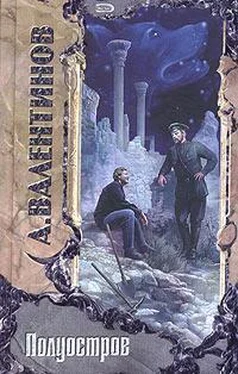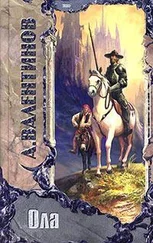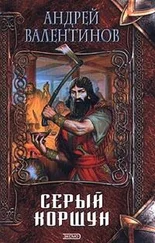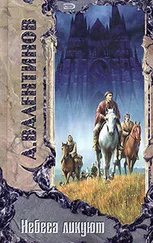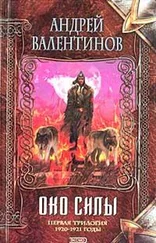1976
К Байкалу, сквозь дебри, уходят колонны.
Мелькают вдали то изба, то погост.
И снег застывает на наших погонах
Цепочкой нежданных серебряных звезд.
«Мы будем в Иркутске!» — сказал вчера Каппель,
И мы прохрипели три раза «Ура!».
Да только нога разболелась некстати,
И холод — считай, минус тридцать с утра.
Стоят одиноко дорожные вехи,
Лишь сосны кивают солдатам в пути…
Кто там в Нижнеудинске? Наши ли? Чехи?
Как встретят? А хватит ли силы дойти?
Сегодня сказали — Колчак арестован.
За понюшку продал Иуда-Жанен.
Похоже, всем нам общий крест уготован,
Ведь «черных гусар» не берут они в плен.
От роты остался пустяк — только двое.
Сто десять штыков — наш отчаянный полк.
В промерзлой земле мы могилы не роем —
Друзья нам простят, что не отдали долг.
А вспомнят ли нас, как мы здесь замерзали,
Как гибли в проклятом таежном кольце?
А ночью все снятся знакомые дали,
И мама встречает на старом крыльце…
1977
Затихли за морем российские звоны.
Кругом заграница, и нечего жрать.
Пропал наш Голицын — он грузит вагоны.
Ушел Оболенский в шантан танцевать.
Кем стали вы нынче, друзья боевые?
На что променяли гвардейский свой дух?
Поручик Голицын берет чаевые,
Корнет Оболенский ласкает старух.
Союзнички лижут зады комиссарам,
А нам нет покоя ни ночью, ни днем.
И только на праздник берем мы гитару
И в бешенстве пьяном «Станицу» поем:
"Четвертые сутки пылает станица,
Потеет дождями донская весна.
Раздайте бокалы, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина."
1985
В тиши тисненой переплета,
Как средь кладбищенских оград,
Давно уже не сводят счеты,
Давно не требуют наград.
Но память славных и бесславных
Роняет отблеск на листы,
Давно уж пред судьбою равных,
Давно оставивших посты.
Они друг друга убивали,
В крови неправый суд творя,
А тех, кто выжил, ожидали
Чужбина, ссылка, лагеря.
Как их закончились минуты,
Кто был, кто не был погребен?..
Печальный очерк русской Смуты,
Чреда ушедших вдаль имен.
1988
Он стать Петром стремился,
Но в чем-то был изъян —
Петр новый не родился,
Родился царь Иван.
Он Грозным был и Лютым,
Безжалостным — к своим.
И целых два Малюты
Стояли рядом с ним.
Он лихо брал Казани,
Хитер был и умен.
И Курбские бежали
От страха за кордон.
Сильвестров, Адашевых
Малютам отдавал,
А всяческих Грязновых
На диво всем прощал.
Бессмертным быть стремился
И умер средь грехов.
А следом воцарился
Никита Годунов.
1979
Здесь все по-другому. И ноги устали,
И наши винтовки тяжелыми стали,
И шага не слышно в лесной темноте.
Не Сьерра-Маэстра… И годы не те…
Но если немеют,
Но если слабеют
И даже винтовки коснуться не смеют,
И если при жизни уже бронзовеют,
Так, может быть, лучше Боливия?
Друзья далеко — им сюда не добраться.
А здесь нет подмоги — молчат и таятся…
Кругом обложили, долины утюжат,
И рейнджеры, словно стервятники, кружат.
Но если ты знаешь,
Что годы теряешь,
Что другу не друг ты уже, а мешаешь,
И если нет дела, а только болтаешь,
Так, может быть, лучше Боливия?
Наверно, когда я истлею в могиле,
Меня не поймут в этом вспененном мире.
Рецептов есть много, как людям помочь.
А мой — лишь винтовка и душная ночь.
Но пусть осуждают,
Пускай отлучают,
Пусть дети меня лишь со снимков узнают.
Быть может, поймут. Ведь порой понимают,
Что все-таки лучше — Боливия!
1977
1.
Идем сквозь пустыни, идем сквозь дожди.
Ведут нас куда-то седые вожди.
Веленьем пророков, ушедших в века,
Идем мы к далеким чужим берегам,
Где нет ни страданий, ни горьких забот,
Где счастье и воля добравшихся ждет.
Суровы законы на нашем пути:
Ждет смерть тех, кто с нами не хочет идти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу