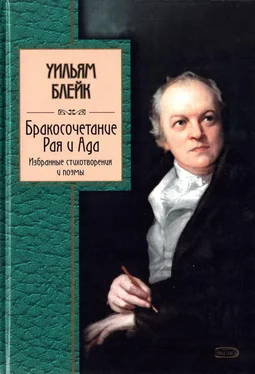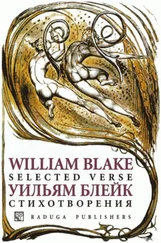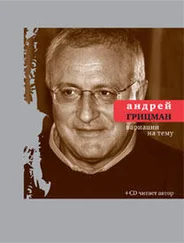В нише пустой встал Омон и потряс своим посохом
кости слоновой;
Злость и презренье вились вкруг него, словно тучи
вкруг гор, застилая
Вечными снегами душу. И Генрих, исторгнув
из сердца пламенья,
Гневно хлестнул исполинских небесных коней
и покинул собранье.
В залу аббат де Сийес поднялся по дворцовым
ступеням — и сразу,
Как вслед за громом и молнией голос гневливый
грядет Иеговы,
Бледный Омона огонь претворил в сатанинское
пламя священник;
Словно отец, увещающий вздорного сына,
сгубившего ниву,
Он обратился к Престолу и древним горам,
упреждая броженье.
«Небо Отчизны, внемли гласу тех, кто взывает
с холмов и из долов,
Застланы тучами силы. Внемли поселянам,
внемли горожанам.
Грады и веси восстали, дабы уничтожить и грады,
и веси.
Пахарь при звуках рожка зарыдал, ибо в пенье
небесной фанфары —
Смерть кроткой Франции; мать свое чадо растит
для убийственной бойни.
Зрю, небеса запечатаны камнем и солнце
на страшной орбите,
Зрю загашенной луну и померкшими вечные
звезды над миром,
В коем ликуют бессчетные духи на сернистых неба
обломках,
Освобожденные, черные, в темном невежестве
несокрушимы,
Обожествляя убийство, плодясь от возмездья,
дыша вожделеньем,
В зверском обличье иль в облике много страшней —
в человеческой персти,
Так до тех пор, пока утро Покоя и Мира, Зари
и Рассвета,
Мирное утро не снидет, и тучи не сгинут, и Глас
не раздастся
Всеобнимающий — и человек из пещеры у Ночи
не вырвет
Члены свои затененные, оком и сердцем
пространство пронзая, —
Тщетно! Ни Солнца! Ни звезд!.. И к солдату
восплачут французские долы:
„Меч и мушкет урони, побратайся с крестьянином
кротким!“»
И, плача,
Снимут дворяне с Отчизны кровавую мантию
зверства и страха,
И притесненья венец, и ботфорты презренья, —
и пояс развяжут
Алый на теле Земли. И тогда из громовыя тучи
Священник,
Землю лаская, поля обнимая, касаясь наперствием
плуга,
Молвит, восплакав: «Снимаю с вас, чада,
проклятье и благословляю.
Ныне ваш труд изо тьмы изошел, и над плугом
нет тучи небесной,
Ибо блуждавшие в чащах и вывшие в проклятых
богом пустынях,
Вечно безумные в рабстве и в доблести пленники
предубеждений
Ныне поют в деревнях, и смеются в полях,
и гуляют с подружкой;
Раньше дикарская, стала их страсть, светом знанья
лучась, благородной;
Молот, резец и соха, карандаш, и бумага,
и звонкая флейта
Ныне звучат невозбранно повсюду и честного
пахаря учат
И пастуха — двух спасенных от тучи военной,
чумы и разбоя,
Страхов ночных, удушения, голода, холода,
лжи и досады,
Зверю и птице ночной вечно свойственных —
и отлетевших отныне
Вихрем чумным от жилища людей. И земля
на счастливой орбите
Мирные нации просит к блаженству призвать, как
их предков, у Неба».
Вслед за священником Утро само воззовет:
«Да рассеются тучи!
Тучи, чреватые громом войны и пожаром убийств
и насилий!
Да не останется доле во Франции ни одного
ратоборца!» [46] На самом деле с требованием распустить королевскую гвардию выступил не Сийес, а Мирабо (8 июля 1789 г.).
Кончил — и ветер раздора по Зале пронесся,
и тучи сгустились;
Были вельможи, как горы, как горные чащи,
трясомые вихрем;
И, незаметно в шатанье дерев, в треске сучьев,
рос шепот в долине
Или же шорох — как будто срывались в траву
виноградные гроздья,
Или же голос — натруженный крик землепашца,
не возглас восторга.
Туче, чреватой огнем, уподобился Лувр,
заструилась по древним
Мраморам алая кровь; Дюк Бургундский
дождался монаршего слова:
«Видишь тот замок над рвом, что внушает Парижу
опаску?
Скомандуй
Этой громаде: „Бастилия пала! Сошел замок
призрачный с места,
Тронулся в путь, через реку шагнул, отошел
от Парижа на десять
Миль. Твой черед, неприступная Южная крепость. [47] Видимо, подразумевается Сен-Жерменское аббатство, служившее тюрьмой; было взято штурмом 29 июня.
Направься к Версалю,
Хмуро взгляни в те сады!“ И коль выполнит это
она, мы распустим
Армию нашу, что дышит войной, а коль нет — мы
внушим Ассамблее:
Армия страхов и тюрьмы мучений суть цепи
стране возроптавшей».
Словно звезда, возвещая рассвет потерпевшим
кораблекрушенье,
Молча направился горестный вестник
пред Национальным собраньем
С горестной вестью предстать. Молча слушали.
Молча, но громкие громы
Громче и громче гремели. Обломки колонн, прах
времен — так молчали.
Словно из древних руин, к ним воззвал Мирабо —
громы стихли мгновенно,
Хлопанье крыл было вкруг его крика: «Услышать
хотим Лафайета!».
Стены откликнулись эхом: «Услышать хотим
Лафайета!»
И в пламя, —
Молниеносно, как пуля, что взвизгнула в знак
объявления боя, —
С места сорвавшись, «Пора!» — закричал Лафайет.
И Собранье
В тучах застыло безмолвно, колчан, полный
молний, над градами жизни.
Градами жизни и ратями схватки, где дети их шли
друг на друга;
Голосовали, шепчась, — вихрь у ног, — голоса
подсчитали в молчанье,
И отказали войне, и Чума краснокрылая в небо
метнулась.