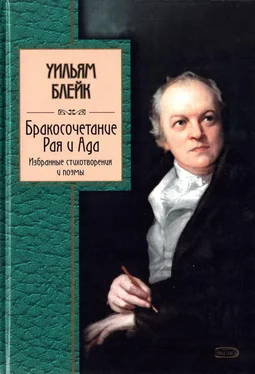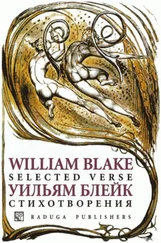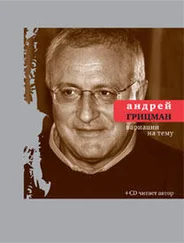Все ж не умерился гнев благородных, а тучей
вскипел грозовою.
Громче же всех возопил, проклиная Париж,
его Архиепископ.
В серном дыму он предстал, в клокотанье огней
и в кровавой одежде.
«Слышишь, Людовик, угрозы Небес! Так испей,
пока есть еще время,
Мудрости нашей! Я спал в башне златой, но деяния
злобные черни
Тучей нависли над сном — я проснулся — меня
разбудило виденье:
Холоднорукое, дряхлое, снега белее, трясясь
и мерцая,
Тая туманом промозглым и слезы роняя на чахлые
щеки,
Призраки мельче у ног его в саванах крошечных
роем мелькали,
Арфу держали в молчанье одни, и махали кадилом
другие;
Третьи лежали мертвы, мириады четвертых вдали
голосили.
Взором окинув сию вереницу позора, рек
старший из духов
Голосом резче и тише кузнечика: „Плач мой
внимают в аббатствах,
Ибо Господь, почитавшийся встарь, стал отныне
лампадой без масла,
Ибо проклятье гремит над страною, которую
племя безбожных
Нынче терзает, как хищники, взоры тупя,
и трудясь, и отвергнув
Святость законов моих, языком забывая звучанье
молитвы,
Сплюнув Осанну из уст. Двери Хаоса треснули,
тьмы неподобных
Вырвались вихрем огня — и священные гробы
позорно разверсты,
Знать омертвела, и Церковь падет вслед за нею,
и станет пустыня:
Черною — митра, и мертвой — корона, а скипетр
и царственный посох
С грудой костей государевых вкупе истлеют в час
уничтоженья;
Звон колокольный, и голос субботы, и пение
ангельских сонмов
Днем — пьяной песней распутниц, а ночью —
невинности воплями станет;
Выронят плуг, и падут в борозду — нечестны,
непростимы, неблаги,
Мытарь развратный заменит во храме жреца;
тот, кто проклят, — святого;
Нищий и Царь лягут рядом, и черви, их гложа,
сплетутся в объятье!“
Так молвил призрак — и гром сотрясал мою
келью. Но тучей покоя
Сон снизошел на меня. А с утра я узрел поруганье
державы
И, содрогаясь, пошел к государю с отеческим Неба
советом.
Слушай меня, о Король, и вели своим маршалам —
в дело!
Господне
Слушай решенье: спеши сокрушить в их
последнем прибежище Штаты,
Дай солдатне овладеть этим градом мятежным,
где кровью дворянства
Ноги решили омыть, растоптав ему грудь и чело;
пусть поглотит
Этих безумцев Бастилия, Миропомазанник,
вечною тьмою!»
Молвил и сел — и холодная дрожь охватила
вельмож, и очнулись
Монстры безвестных миров, ожидая, когда их
спасут и окликнут;
Встал дюк Омон, [41] Герцог Омон (1723–1799) отказался от командования гвардией накануне 14 июля.
чья душа, как комета, не ведая
цели, ни сроков,
В мире носилась хаосорожденной, неся поруганье
и гибель, —
Как из могилы восстав, он предстал в этот миг
пред кровавым Советом:
«Брошены армией, преданы нацией, мечены
скорою смертью,
Слушайте, пэры, и слушай, прелат, и внемли,
о Король!
Из могилы
Вырвался призрак Наваррца, [42] Имеется в виду Генрих IV (1553–1610), французский король, пользовавшийся любовью подданых.
разбужен аббатом
Сийесом [43] Аббат Эманюэль Жозеф Сийес (1748–1836) — один из деятелей Французской революции.
из Штатов.
Там, где проходит, спеша во дворец, все немеют
и чувствуют ужас,
Зная о том, для чего он могилу покинул
до Судного часа.
Бесятся кони, трепещут герои, дворцовая
стража бежала!»
Тут поднялся самый сильный и смелый
из отпрысков крови Бурбонской,
Герцог Бретанский и герцог Бургонский, мечом
потрясая отцовским,
Пламенносущий и громом готовый, как черная
туча, взорваться:
«Генрих! как пламя отвесть от главы государя?
Как пламенем выжечь
Корни восстанья? Вели — и возглавлю я воинство
предубежденья,
Дабы дворянского гнева огонь полыхал
над страною великой,
Дабы никто не посмел положить благородные выи
под лемех».
Дюк Орлеанский [44] Герцог Орлеанский (1747–1793) завоевал популярность в народе пожертвованиями в голодные годы.
воздвигся, как горные кряжи,
могуч и громаден,
Глядя на Архиепископа — тот стал белее
свинца, — попытался
Встать, да не смог, закричал — вышло сипом,
слова превратились в шипенье,
Дрогнул — и дрогнула зала, — и замер, —
и заговорил Орлеанец:
«Мудрые пэры, владыки огня, не задуть,
а раздуть его должно!
Снов и видений не бойтесь — ночные печали
проходят с рассветом!
Буря ль полночная — звездам угроза?
Мужланы ли — пламени знати?
Тело ль больно, когда все его члены здоровы?
Унынью ли, время,
Если желания жгучие обуревают? Душе ли
томиться, —
Сердце которой и мозг в две реки равномерно
струятся по Раю, —
Лишь оттого, что конечности, грудь, голова
и причинное место
Огненным счастьем объяты? Так может ли стать
угнетенным дворянство,
Если свободен народ? Иль восплачет Господь,
если счастливы люди?
Или презреем мы взор Мирабо и решительный вид
Лафайета,
Плечи Тарже, и осанку Байи, и Клермона [45] Мирабо, Торже, Байи, Клермон — лидеры политических группировок в Учредительном собрании.
отчаянный голос,
Не поступившись величьем? Что, кроме как пламя,
отрадно петарде?
Нет, о Бездушный! Сперва лабиринтом пройди
бесконечным чужого
Мозга, потом уж пророчествуй. В гордое пламя,
холодный затворник,
Сердца чужого войди, — не сгори, — а потом уж
толкуй о законах.
Если не сможешь — отринь свой завет и начни
привыкать постепенно
Думать о них, как о равных, — о братьях твоих,
а не членах телесных,
Власти сознанья покорных. И прежде всего научись
их не ранить».
С места поднялся Король; меч в златые ножны
возвратил Орлеанец.
Знать колыхалась, как туча над кряжем, когда
порассеется буря.
«Выслушать нужно посланца толпы. Свежесть
мыслей нам будет как ладан!»
Читать дальше