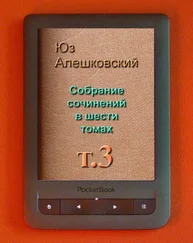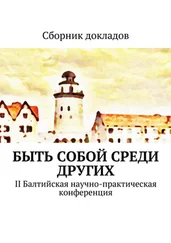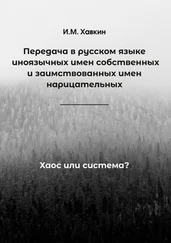Чтоб потом, в дороге умирая
(только не от петли бы своей),
отойти не к млечным высям рая,
а к знакомым запахам полей.
1950 год
Такие строки не умрут.
Их вещий смысл постиг теперь я:
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.
В углу, во глубине, в себе.
В Сибири. В сером серебре
своих висков.
Во льдах, в граните —
к своей земле, к своей судьбе
терпенье долгое храните!
Не зло, не горечь, не печаль —
они пройдут угрюмой тенью.
Пред нами — дней грядущих даль.
Храните трудное терпенье!
Пусть ночью — нары, днем — кирка.
И пусть сердца легко ранимы,
пусть наша правда далека —
терпенье твердое храним мы.
Оно нам силой станет тут,
спасет от мрака отупенья.
Во глубине сибирских руд
храните гордое терпенье.
1952 год
Над городом воют сирены.
Над городом стелется дым.
Устав от работы, смиренно
под стражей без шапок стоим.
Застыла в молчании вечность.
Молчит напряженно конвой.
И холодно, в общем, конечно,
с остриженною головой.
Всё, кроме сирен, замолчало.
Молчит в автоматах свинец.
А завтра — всё снова сначала?
А где же какой-то конец?
Над городом — в трауре флаги.
В душе — ни слезы, ни огня.
Молчит затаившийся лагерь
в преддверии нового дня.
1953 год
Правда — одна, нет нескольких правд —
так говорят люди.
Я не забуду — был горько прав
Генрих Маврикиевич Людвиг.
Словно загадывал он наперед,
когда говорил себе в бороду белую:
— Страшно не то, что Сталин умрет,
а то, что при этом возвысится Берия!
Я друга такого едва ли найду.
Профессор не дрогнул в годах этих лютых.
Он вышел на волю в прошлом году —
старый лагерник Людвиг.
Друг мой ушел, словно дверь приоткрыл:
мне следом на волю охота!
Людвиг ушел, а мне подарил
свое уцелевшее фото.
С надписью. Может, ее недостоин я,
но ей, как признанию, радуюсь я:
«Писатель не только свидетель истории,
но и ее судья».
Что делать, профессор,—
мы все здесь
свидетели.
Свидетелей тоже легко посадить!
И все же мы встанем — мы, наши дети ли —
и станем историю миром судить.
На том стою на стыке дорог,
веря, что это будет.
История наломала дров.
Но мы ж не дрова, мы люди!
1953 год
Юрий Александрович Стрижевский (род. 1908). Радиоинженер, литератор. Участник Великой Отечественной войны. Был в ополчении, попал в фашистский плен, бежал, потом воевал в рядах Советской армии. В 1945 году вернулся в Москву и в тот же день был арестован. В заключении находился до 1955 года на Колыме.
Как поэт в печати не выступал.
«Забор, запретка, вахта, вышка…»
Забор, запретка, вахта, вышка,
Оскал собачий, автомат.
Попал сюда, считай, что крышка,
Отсюда труден путь назад.
А выжил, об заклад я биться
Готов, что с этих самых пор
Тебе до гроба будут сниться
Запретка, вахта и забор.
1950 год
Спи, малютка, не надо плакать,
Моя девочка, крошка моя!
Ничего не случилось с папой.
Видишь, больше не плачу я.
Месяц ходит по синему небу,
Ветер плачет в холодной трубе.
Спи спокойно, никто здесь не был.
Спи, все это приснилось тебе…
Котик вон умывается лапкой;
Скоро будет, наверно, светать.
Ничего не случилось с папкой,
Папка просто пошел погулять.
Спи спокойно, любимая крошка,
Моя девочка, моя дочь!
Подрастешь, поумнеешь немножко
И поймешь эту страшную ночь.
1950 год
Жди меня, моя сероглазая,
Я вернуся цветущей весной.
Много есть мне о чем порассказывать,
Не соскучишься ты со мной.
Не соскучишься, не зевнешь с тоской,
А, услышав мой горький рассказ,
На плечо мое припадешь, друг мой,
И уронишь слезу из глаз.
Я походкой войду несмелою.
Ты меня не узнаешь сейчас —
Голова моя стала белою,
И морщины легли у глаз.
То не старость грозит могилою,
Это горе всю выпило кровь.
Только в сердце моем с прежней силою
Молодая живет любовь.
Читать дальше