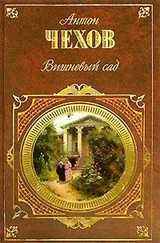Весна дана мне вновь – надежд и грез залогом,
Я – словно юноша, негаданным ожогом
Давно желанных губ захваченный врасплох.
О, сердце! Для чего заботишься о многом?..
Душа всего – любовь. С ней жизни каждый вздох,
Как аллилуия, возносится пред Богом.
XIX.
УЛИЦА
Уходит день-делец. Пригашен труд истомный.
Но сон обманчивый, от лжи житейской щит,
Меня не обольстил. Бунтующий наймит,
Я в город ухожу, счастливый, как бездомный.
Люблю я свежий мрак, всевидящий, но скромный, –
Соблазном вкрадчивым он тянет, как магнит.
Маячат призраки. Украдкой шаг звучит,
Чуть сеют фонари свой отсвет вероломный.
И вдруг – огни, толпа, и женский смех, и шум…
Душа взволнована, остро встревожен ум,
Лукаво улица влечет в свой омут мутный.
В слепой водоворот бросаюсь наобум,
И мчит меня, кружа, горячий вихрь попутный
Песчинкой чувственной в хмельной людской самум.
XX.
ЛЕСТЬ ДИОГЕНА
Удержан Буцефал на поводу пред бочкой
Бродяги-мудреца. Хозяйская ладонь
По шее взмыленной похлопала.
Но конь, Храпя, копытом бьет, скучая проволочкой.
Герой сошел с седла. С багряной оторочкой
Наброшен белый плащ на золотую бронь,
С косматым гребнем шлем пылает, как огонь,
И острие копья горит лучистой точкой.
Философ, звавший мир к переоценке цен,
Уча, что слава, власть и радость жизни – тлен,
Всем этим ослеплен в великом Македонце.
Но, овладев собой, приветствию взамен
Воскликнул: «Отстранись! Ты – затмеваешь солнце!»
Ну, разве же не льстец был циник Диоген?
XXI.
В ГОРОДЕ
Тоска. А за окном унынье пустырей
И стены серые с морщинами известки.
Бежать… Невмочь терпеть. Я вышел. Ветер хлесткий
Порывом щеки жжет, и дышится бодрей.
В морозных сумерках, кружась у фонарей,
Сияньем радужным горят снежинок блестки.
Зеркальных окон свет. Шумливы перекрестки,
И много светлых глаз и золотых кудрей.
Здесь юной жизни смех разбрызган беззаботно;
Здесь с одиночеством я рву бесповоротно:
Я не совсем один, и мир не вовсе пуст.
И если вдруг блеснет – мне данью доброхотной —
Улыбка женская, – в привете свежих уст
Мне молодости зов мерещится дремотно.
XXII.
TAO
«На днях, в дремотный миг, отдавшись грез прибою,
Я осознал себя лазурным мотыльком:
То я на солнце млел, то реял над цветком,
То незабудкою прельщался голубою.
Всецело был сроднен я с новою судьбою,
И так был мой удел мне близок и знаком,
Что я совсем забыл о жребии людском…
Но вдруг, преобразясь, стал вновь самим собою.
И вот в душе с тех пор загадку я несу…
Тогда ли, человек, я видел сон в лесу,
Что был я бабочкой, с ее коротким веком,
Теперь ли, под листком забывшись на весу,
Я грежу, мотылек, что стал я человеком?..»
Так говорил друзьям великий Чуанг-Тсу.
XXIII.
ВОСПОМИНАНИЕ
Ах, сон ли!.. Догорал зари разлив янтарный;
Прозрачные сады дымились мглой живой,
И летний вечер плыл, чуть вея над Невой.
Как грусть задумчивый, как радость лучезарный.
По пыльной площади промчался выезд парный.
Шурша по кубикам торцовой мостовой, –
И сразу стихло всё. Загадкой вековой
Светился Петербург, и въяве – легендарный.
О, как хорош бывал в такие вечера
Любезный Парадиз великого Петра –
Его Империи зиждительный рассадник.
О славе грезилось. И, словно лишь вчера
Воспетый Пушкиным, был чуден Медный Всадник
Под бледным светом зорь, мерцавших до утра.
XXIV.
ИСХОД
Привык я не роптать, что косным этим телом
Прикован я к чужой неласковой стране,
Что в чуждой мне толпе бреду, как в тяжком сне,
Существованием томим, как нудным делом.
Но душу примирю ль с невольничьим уделом
Заботы нищенской о завтрашнем лишь дне,
Меж тем как копит мир в неверной тишине
Тупую ненависть на сердце оробелом.
Могу ль откликнуться на эту быль? – О нет,
Не петь мне гимнов ей! Иной мечтой согрет,
Напев мой волен там, где дышит жизнь природой.
Читать дальше

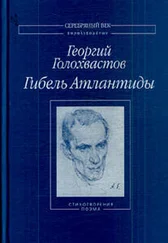

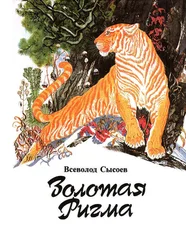

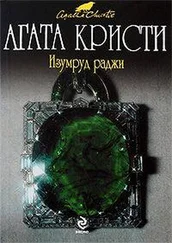
![Ирина Грин - Чужая лебединая песня [litres]](/books/409420/irina-grin-chuzhaya-lebedinaya-pesnya-litres-thumb.webp)