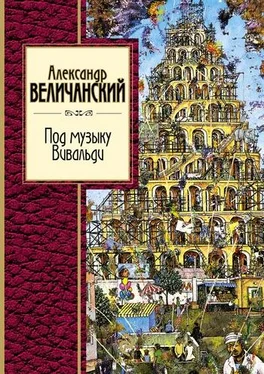Солнце вечное,
беспречь свети!
В тебе ночка-глубь —
как в тихом омуте.
Церковь, как в цвету
яблонька одна.
На белом свету
нам и ночь красна!
а и насквозь видна,
как пить до дна:
эх – была не была —
нам и ночь бела!
Богородица ходила,
следу Божьего искала,
во оставленные храмы
проникала сквозь затворы,
со Пароменья Успенье
напоследок оглянула —
среди б́ела д́енька Дева
одинешенька, как ночка.
Каково во Пскове людно,
таково ей одиноко.
Каково во храмах пусто,
так никто ее не узрел.
Из Софийской первой летописи
…В семь тыщ восемнадцатое
лето с сотворенья
мира Божья, генваря
в день тринадесятый
изволил Великий Князь
изволить две воли:
веча бы у нас не быть,
снять колокол вечный.
Пойманы Богом
и Великим Князем —
волен Бог и государь
в вотчине своей он,
во Плескове и во нас,
в колоколе нашем,
в вечном колоколе и
гуле его вещем.
…Опускался долу
колокол, что солнце,
и, на колокол смотря,
плакати начата
вечники-крамольники
псковичи – от мала
до велика(токмо
слез не испустили
кои млады и зане
не в разуме сущи) —
как им не упали
зеницы на землю,
зеницы на землю
со слезами вкупе?
како не урвалось
от корени сердце,
плачучи по старине
и по своей воле?
…Поклонившись Троице,
князь начата править —
правых, виноватых
по себе твориша.
От насильства, грабежа
разбегоша многи,
пометав детей и жен,
в города иные,
иноземцы во свои
земли разъидоша,
и осташа во Пскове
псковичи едины.
Некуда, Заступница,
от себя успеть:
ЗЕМЛЯ НЕ РАССТУПИТСЯ
А ВВЕРХ НЕ ВЗЛЕТЕТЬ.
«С той поры, как царь Иван Васильевич…»
С той поры, как царь Иван Васильевич
(а точнее царь Василь Иваныч)
выводил измену изо Пскова,
Псков навек остался неизменным,
а коль изменялся – неприглядно,
как душою брошенное тело
страшно изменяется – хоть прибран
прах, омыт водою ключевою,
прежде чем для вечного прощанья
всем на поглядение поставлен.
Ищи ветра в поле.
Во бору – дорог.
Во нашей неволе
волен князь да Бог.
Как полей раздолью
мерою – сыр-бор,
так и своеволью
мера – произвол.
И когда над полем
лес зайдется в дым,
уж мы поизволим!
уж мы похотим!
Каждый храм во Пскове
сам себя укромней,
каждый храм во Пскове
сам себя огромней:
хоть велик – уютный,
хоть и близок – дальний,
хоть миниатюрный,
но монументальный —
ширь и высь в обличье
тесное впитал он:
велико величье —
обойдется малым.
Ан не вывернуть нам
храмов наизнанку —
двоеличие стенам
вечное дано:
уж снаружи-то стена
стеснилась, как правда,
а внутри, как истина,
раздалась темно.
Уж наружа-то видна,
а нутро укромно.
Всяка истина – стена.
Всяка правда – прорва.
«Знать теснее извне, чем внутри…»
Знать теснее извне, чем внутри,
храмы псковские, но до поры
в этот их первозданный секрет
нету входа и выхода нет —
не войдет, не воскликнет позор:
«в тесноте Ты давал мне простор»,
до пределов небесной красы
«в скорби распространил мя еси».
Чрез звонницы основу,
чрез мощный четверик,
как будто через слово,
мы смотрим через них,
и сквозь теснины-своды
мы видим скорбь-страну,
ак будто через воду
или через весну [12].
Пуста, аки бездна,
храмов старина —
вера БЕССЛОВЕСНАЯ
в ней заключена —
посильнее искуса,
попустей поста —
хоть извне неистова,
а внутри пуста.
«Расцвет – он мастера, как сок…»
Расцвет – он мастера, как сок,
всего всосет из почвы
и вместе с именем его
поглотит – не беда:
потусторонен, словно Бог,
творения воочью,
жив мастер – легкая стопа
во глубине следа.
Упадок-дока имена
творит: играет ими.
И за соломинку труда
напрасно ухватясь,
сам мастер до трясины дна
в свое уходит имя —
и лопаются пузыри
земли: поверхность, грязь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу