и ржанье теней одиноких
снаружи слышалось темней
* * *
у берега воды — бескрайней и суровой —
я пристально стоял, рассеянно смотря.
и пряжка, и каблук, и весь ботфорт мой новый
казались в этот день особенно не зря.
могущество весны не только в ее власти,
оно во всем ее безбрежно-остальном:
когда хмелеет кровь, и медленные страсти
готовы весь февраль перевернуть вверх дном.
о шпаге что скажу? она со мной бесследно,
безвыездно со мной — особенно тогда,
когда в пылу вскипев какой-нибудь беседы,
вонзаю я клинок в виновного врага.
но медленнее всех и черно-голубее
одна ночная страсть: иззвездно-глубока,
она скрипит равно и князю и плебею —
то ангельским крылом, то дверью кабака.
о шпорах что скажу? они — как и все шпоры —
то густо моросят, то огненно слывут, —
особенно вчера, когда врубились хором
в необозримый строй гарцующих минут.
здесь все ее: все дали-каторжане
и эти облака в грохочущих цепях,
и даже конный луч, и утреннее ржанье —
как брошенная тень в полночных торопях.
о парике? но пусть он о себе сам скажет —
дождь свежезавитой, затмение и гром —
о стеклышке огня, замазанного сажей,
о черной желтизне с простреленным углом
* * *
привыкли сумерки к началу,
к его безвременной игре,
когда окно насквозь звучало,
словно лучи горящих треф,
словно воздушные примеры
какой-то ангельской зимы,
какой-то снежно-белой веры —
сквозь полдня хладные дымы.
вдали был шепот слышен дальний, —
глаза едва ли здесь при чем,
и, словно младший стон зеркальный,
двоился сумрак за плечом.
восток февральский полуночный,
не ты ли в воздухе горишь?
не твой ли холод, обжигаясь,
созвездья сбрасывает с крыш? —
туда — в бездонные провалы
ничейной памяти седой,
чтоб, отразившись бесконечно,
сверкнули древнею водой.
так пусть же холода немого
объем наклонится сильней —
пока века не изнемогут
в своей непрошенной длине
* * *
казалось, всадники задумчиво бродили,
пред тем как спешиться и огненно уснуть.
и поздних облаков темнеющая сила
последним небесам прокладывала путь.
тогда прибрежный час — тот, что казался старше,
закончился на миг, но долгая вода
и долгие века и огненная башня
за цокотом копыт исчезли навсегда.
то черно-голубой, то хладно-безымянный,
где ветер возвестил знаменам ранний цвет,
не к прежним ли холмам их шелесты взывали —
безбрежные на слух, безгневные на нет?
* * *
все небо в облаках,
все облака на небе,
и если поздний час
закончится собой,
то белые гряды,
как одноглавый лебедь,
не к сумраку прильнут,
но к вечности ночной.
на вспыхнувшей волне
фонарного прилива,
покачиваясь, даль
уже уходит в близь,
и лебедь к временам
плывет неторопливо,
чтоб белые века
с багровыми слились
* * *
так конь и всадник думают одно, и ветер
им шумит про поздние изъяны и черной
высоты показывает дно, чтоб звезды вызво
лить из ямы.
мне рост не позволял не думать — его
гвардейская верста, и луч ломал свой
светлый локоть, хотя и мысль была проста.
я думал: отчего весенний? и сам же шпорой
отвечал: все звуки там, где нет всех зву
ков, а лишь отточенный металл.
вдруг один из портретов ожил, а мне пока
залось, что это вся стена оживает.
(в парадной зале был тот сумрак, который
в зале был парадной).
расшитого камзола клубился полумрак, и
шпаге, вышедшей на волю, было безмолвно
так!
обычай говорить — не такой уж древний.
гораздо древнее — молчать.
нахмурив рану золотую, он молча призрачно
смотрел — туда, где гром, отложенный на
завтра, и тучи срезанный предел.
вдруг слово губы очертило своею крат
костью стальной, он произнес весьма
учтиво: «гм-гм!», и холод выпрямился
остальной.
потом прошли века, как долгие
минуты,
и доживала тень свой серебристый
час,
и тени были необуты — для
тишины
оглохших глаз
* * *
над голубым столом,
где ночь оцепенела,
игрально-тусклых звезд
рассыпались ряды,
и ветер золотой,
как карточное дело,
собою поражен —
зеркальным и седым.
тогда какой-то миг
свой профиль торопливый
напрасно наклонить
пытался над игрой, —
ветрам ли не унять
курантовы порывы,
похожие на хрип
прошедшего сквозь строй.
Читать дальше
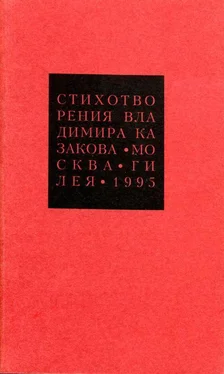


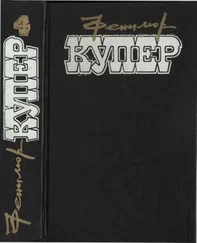



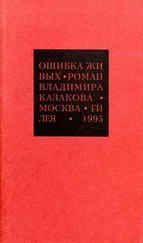
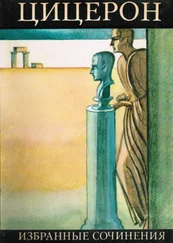
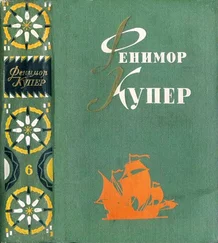
![Антоний Фердинанд Оссендовский - Тайна трех смертей [Избранные сочинения. Том I]](/books/408118/antonij-ferdinand-ossendovskij-tajna-treh-smertej-thumb.webp)
