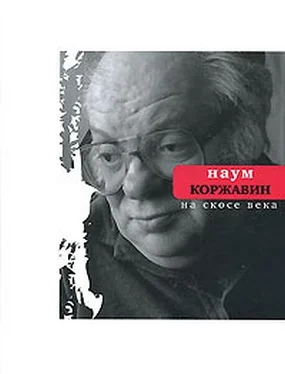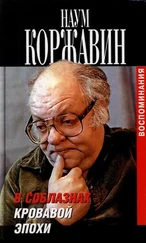Страх временности — вкуса бремя.
И как за временность судить,
Раз ей по силам нынче
время
Само —
затмить иль прекратить.
Сменить бы бремя на беспечность —
Вздыхать, порхать, огнём гореть.
И вдруг сквозь это в чём-то вечность
Почти случайно рассмотреть.
Ах, временность!.. Концы… начала… —
Всё здесь. Всё быт одной поры…
…Но в наши дни она пленяла
Соблазнами другой игры.
И властью путать всё, внушая,
Что видим свет за плотной тьмой,
Энтузиазмом окружая
Наш дух, как огненной тюрьмой.
Ах, временность!.. Ах, вера в благо!
Борьбы и веры жаркий вихрь.
А рядом трупы у продмага
И мухи панцирем на них.
Когда Мандельштаму дали комнату, венгерский писатель Матэ Залка, комбриг, в будущем — легендарный «генерал Лукач», заявил по этому поводу протест.
По мемуарам Н. Я. Мандельштам
Незаметно, но всё ж упрямо
Революции выцветают.
Дали комнату Мандельштаму —
Фальшь, как плесень, дух разъедает…
Ни к чему ордена и шрамы.
Всюду стройки, а тянет в пьянство.
Дали комнату Мандельштаму —
Уступили опять мещанству.
Всё не так, как было когда-то.
Стихли даже все перепалки.
…И сошлись погрустить ребята
У товарища Матэ Залки.
Хоть комбриг он, и пишет книги,
Славный век ими вместе прожит.
И его нашей жизни сдвиги
Так же радуют и тревожат…
Он молчит, ни на что не ропщет.
Но при случае спросит прямо:
«Как так вышло, что вы жилплощадь
Дали этому… Мандельштаму?
Вы, наверно, забыли, где вы!
Что за наглость — давать квартиры
Не поэтам борьбы и гнева,
А жрецам буржуазной лиры.
Как вам хочется бросить кость им,
Приобщиться, пусть ненадолго.
Коммунисты вы? Хватит! Бросьте!
Обыватели вы, и только».
Не ответят… Но их изнанка
Вся всплывёт — когда ночью чистой
Из той комнаты на Лубянку
Мандельштама свезут чекисты…
Наша истина — меч разящий!..
Пусть пощады чужой не просит!..
…А чекисты теперь всё чаще
Так же точно своих увозят.
Муть на сердце, но в мыслях — строго:
Всё издержки, на солнце пятна.
Минут годы. В конце дороги
Что-то станет и им понятно.
Нет, не то, что за гонку в небыль
Так взимается неустойка…
Лишь одно: штурмовали небо —
Взяли лагерную помойку…
Но и это поймут не скоро,
Хоть и боль будет жечь упрямо:
Как же так — сажать без разбору
Коммунистов и Мандельштама?
Тех, кто полон лишь сам собою,
С храбро шедшими в бой за братство…
Святотатство!..
Но дух наш стоек.
И комбриг снесёт святотатство.
Он не сдастся… Но всё на свете
Вдруг ощерится неприятно.
И в Испанию он уедет —
Снова видеть врага понятным…
И забыть про те казематы,
Где и нынче идут дознанья.
Где, быть может, его ребята
На него дают показанья.
Растворить в пулемётном треске
Подозренья и основанья.
И погибнет он под Уэской,
Страшной правды не сознавая.
Веря в то же: в свои-чужие,
В то же право силы рабочей,
Той, которой поэты в России
Не нужны, а квартиры — очень!
И не будет знать, умирая,
Что и тут зря вставал он грудью:
Что рабочие проиграют,
Но потом будут жить как люди…
Что без власти его оружья
И без веры его могучей
Было б всюду никак не хуже, —
А как правило, всё же лучше.
И что очень давно всё это, —
Как ни крой буржузность лиры, —
Было ясно душе поэта,
Им гонимого из квартиры.
Что игралась другая драма.
И в её исчисленье строгом
Эта комната Мандельштама —
Чья-то луковичка перед Богом.
Начало 1990-х
Нет, не сама стопы направила
Ты в эту тьму — волос не рви.
Была проиграна ты дьяволу
Во имя Света и Любви.
То дальний блеск, то лужи строек лишь…
Да знал ли тот игрок шальной,
С кем и на что играл — и проигрыш
Какой оплачивал ценой.
Не знал… Но верил в даль, в движение.
И в споре с веком и судьбой
Полёт души и напряжение
Всю жизнь поддерживал борьбой.
Теперь глядит глазами шалыми,
Как бьётся, ужаса полна,
В когтях чертей страна усталая,
Проигранная им страна.
Читать дальше