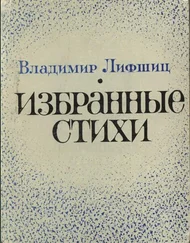и пенился хохолками
курятник в гомоне горлиц,
звенели плошки с горшками,
котлы распирала гордость.
И Марфа шагом веселым
спешила, чуждая смутам,
к своим давильням и пчелам,
годам, часам и минутам...
К ней все, ожидая встречи,
тянулось, вниманью радо:
так на бубенец овечий
спешит послушное стадо.
И лишь Мария -- далече,
в углу, где тишь да лампада.
В углу, где замерли звуки,
прядет, а не видно нитки.
И что там детские руки
рисуют по синей плитке?
Что варит она незримо,
а нет ни огня, ни дыма?
И полднем золотоглазым,
пока сестра хлопотала
о всех нуждавшихся разом,
ее Марии не стало.
Без сборов и суматохи
отправилась в путь далекий.
Бесшумно замерли вздохи,
слегка побледнели щеки.
В углу, тишиной повита,
одета прохладной тенью,
она -- как лед сталактита,
как сон сухого растенья.
Шли годы. Марфа старела.
Забило копотью вьюшки.
Молчал котел помертвело,
остыл очаг у старушки,
и стала белее мела
ее коса огневая.
Все чаще, забыв про дело,
кому-то в ответ кивая,
она в уголке сидела,
как в юности та, другая...
И п'од нос себе устало,
прикрыв глаза неживые,
"Мария", -- она шептала,
а после опять: "Мария!"
И раз, не окончив фразу,
одно затаив желанье,
шагнула к сестре, и сразу
порвалась нитка дыханья...
А Марфа шагала небом,
не зная, кто был, кто не был.
Перевод Н.Ванханен
Природа
111. Смерть моря
Как-то ночью умерло море,
словно жить в берегах устало,
все сморщилось, все стянулось,
как снятое покрывало.
Альбатросом в пьяном восторге
или чайкой, что жизнь спасала,
до последнего горизонта
на девятом вале умчалось.
И когда обворованный мир
открыл глаза на рассвете,
оно стало сломанным рогом:
кричи -- ни за что не ответит.
И когда рыбаки решились
на уродливый берег спуститься
был весь берег смят и взъерошен,
словно загнанная лисица.
Было так велико молчанье,
что оно нас всех угнетало,
и казалось, высится берег,
словно колокол, сломанный шквалом.
Где боролся с ним бог и оно
под его хлыстами рычало
и прыжками оленя в гневе
на удары его отвечало;
где соленые губы сливались
в молодом любовном волненье,
где танцы в кругу золотом
повторяли жизни круженье,
там остались одни ракушки,
блеск скелетов мертвенно-белый
и медузы, что вдруг оказались
без любви, без себя, без тела.
Там остались призраки-дюны,
словно пепел и словно вдовы,
и глядели в слепую пустыню,
где не будет радости новой.
И туман, перо за пером
ощупывая со стоном,
над мертвым большим альбатросом
стоял, словно Антигона.
Глядели глазами сирот
устья рек, утесы и скалы
в холодный пустой горизонт,
их любовь он не возвращал им.
И хоть морем мы не владели,
как подстриженною овечкой,
но баюкали женщины ночью его,
как ребенка, у печки;
и хоть в снах оно нас ловило
всеми щупальцами осьминога
и утопленников то и дело
прибивало оно к порогу, -
но, не видя его и не слыша,
мы медленно умирали,
и наши иссохшие щеки
ввалились от горькой печали.
За то, чтоб увидеть, как мчится
быком одичалым на гравий,
разбрасывая раздраженно
медуз и зеленые травы;
за то, чтоб оно нас било
просоленными крылами,
чтоб на берег рушились волны,
набитые чудесами, -
мы дали бы морю выкуп,
платили бы мы домами
и -- как побежденное племя
сыновьями и дочерями.
Как задохнувшимся в шахте,
дыхания нам не хватает,
и гимны, и песни, и слово
на наших губах умирают.
Все зовем мы его и зовем,
рыбаки с большими глазами,
и горько плачем в обнимку
с обиженными парусами.
И, качаясь на них, качаясь, -
их когда-то качало море, -
мы сожженные травы жуем -
в них вкус водяного простора
или наши руки кусаем,
как скифы пленные в горе.
И, схватившись за руки с плачем,
когда ночь покрывает сушу,
мы вопим, старики и дети,
как забытые богом души:
"О Т'аласса, древний Таласса,
ты спрятал зеленую спину,
позови, позови нас с собою,
не навек же ты нас покинул!
А если ты мертв, пусть примчится
к нам ветер, безумный, как память,
пусть он нас подхватит, поднимет
и вдаль унесет с облаками:
мы снова увидим заливы,
и умрем мы над островами".
Перевод О.Савича
112. Сухая сейба
Сухая сейба -- как мало
таких гигантов родится.
В ней жизнь давно отпылала,
Читать дальше